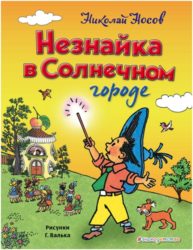Содержание
Сказки Павла Бажова
Сказки Павла Бажова пробуждают фантазию ребят, любопытство, любовь к природе. Они учат трудолюбию, отваге, умению сохранять собственное достоинство и убеждения при любых обстоятельствах.
Горный мастер
Павел Бажов
Катя — Данилова-то невеста — незамужницей осталась. Года два либо три прошло, как Данило потерялся, — она и вовсе из невестинской поры вышла. За двадцать-то годов, по-нашему, по-заводскому, перестарок считается. Парни таких редко сватают, вдовцы больше. Ну, а эта Катя, видно, пригожая была, к ней всё женихи лезут, а у ней только и слов:
— Данилу обещалась.
Ее уговаривают:
— Что поделаешь! Обещалась, да не вышла. Теперь об этом и поминать не к чему. Давно человек изгиб.
Катя на своем стоит:
— Данилу обещалась. Может, и придет еще он.
Ей толкуют:
— Нет его в живых. Верное дело.
А она уперлась на своем:
— Никто его мертвым не видал, а для меня он и подавно живой.
Видят — не в себе девка, — отстали. Иные на смех еще подымать стали: прозвали ее мертвяковой невестой. Ей это прильнуло. Катя Мертвякова да Катя Мертвякова, ровно другого прозванья не было.
Тут какой-то мор на людей случился, и у Кати старики-то оба умерли. Родство у нее большое. Три брата женатых да сестер замужних сколько-то. Рассорка промеж ними и вышла — кому на отцовском месте оставаться. Катя видит — бестолковщина пошла, и говорит:
— Пойду-ка я в Данилушкову избу жить. Вовсе Прокопьич старый стал. Хоть за ним похожу. Братья-сестры уговаривать, конечно:
— Не подходит это, сестра. Прокопьич хоть старый человек, а мало ли что про тебя сказать могут.
— Мне-то, — отвечает, — что? Не я сплетницей стану. Прокопьич, поди-ко, мне не чужой. Приемный отец моему Данилу. Тятенькой его звать буду.
Так и ушла. Оно и то сказать: семейные не крепко вязались. Про себя думали: лишний из семьи — шуму меньше. А Прокопьич что? Ему по душе пришлось.
— Спасибо, — говорит, — Катенька, что про меня вспомнила.
Вот и стали они поживать. Прокопьич за станком сидит, а Катя по хозяйству бегает — в огороде там, сварить-постряпать и протча. Хозяйство невелико, конечно, на двоих-то… Катя — девушка проворная, долго ли ей!.. Управится и садится за какое рукоделье: сшить-связать, мало ли. Сперва у них гладенько катилось, только Прокопьичу все хуже да хуже. День сидит, два лежит. Изробился, старый стал. Катя и заподумывала, как они дальше-то жить станут.
«Рукодельем женским не прокормишься, а другого ремесла не знаю».
Вот и говорит Прокопьичу:
— Тятенька! Ты бы хоть научил меня чему попроще.
Прокопьичу даже смешно стало.
— Что ты это! Девичье ли дело за малахитом сидеть! Отродясь такого не слыхивал.
Ну, она все ж таки присматриваться к Прокопьичеву ремеслу стала. Помогала ему, где можно. Распилить там, пошлифовать. Прокопьич и стал ей то-другое показывать. Не то, чтобы настоящее. Бляшку обточить, ручки к вилкам-ножам сделать и протча, что в ходу было. Пустяшно, конечно, дело, копеечно, а все разоставок при случае.
Прокопьич недолго зажился. Тут братья-сестры уж понуждать Катю стали:
— Теперь тебе заневолю надо замуж выходить. Как ты одна жить будешь?
Катя их обрезала:
— Не ваша печаль. Никакого мне вашего жениха не надо. Придет Данилушко. Выучится в горе и придет.
Братья-сестры руками на нее машут:
— В уме ли ты, Катерина? Эдакое и говорить грех! Давно умер человек, а она его ждет! Гляди, еще блазнить (мерещиться. — Ред.) станет.
— Не боюсь, — отвечает, — этого.
Тогда родные спрашивают:
— Чем ты хоть жить-то станешь?
— Об этом, — отвечает, — тоже не заботьтесь. Продержусь одна.
Братья-сестры так поняли, что от Прокопьича деньжонки остались, и опять за свое:
— Вот и вышла дура! Коли деньги есть, мужика беспременно в доме надо. Не ровен час, — поохотится кто за деньгами. Свернут тебе башку, как куренку. Только и свету видела.
— Сколько, — отвечает, — на мою долю положено, столько и увижу.
Братья-сестры долго еще шумели. Кто кричит, кто уговаривает, кто плачет, а Катя заколодила свое:
— Продержусь одна. Никакого вашего жениха не надо. Давно у меня есть.
Осердились, конечно, родные:
— В случае, к нам и глаз не показывай!
— Спасибо, — отвечает, — братцы милые, сестрицы любезные! Помнить буду. Сами-то не забудьте — мимо похаживайте!
Смеется, значит. Ну, родня и дверями хлоп.
Осталась Катя одна-одинешенька. Поплакала, конечно, сперва, потом и говорит:
— Врешь! Не поддамся!
Вытерла слезы и по хозяйству занялась. Мыть да скоблить — чистоту наводить. Управилась — и сразу к станку села. Тут тоже свой порядок наводить стала. Что ей не нужно, то подальше, а что постоянно требуется, то под руку. Навела так-то порядок и хотела за работу садиться:
«Попробую сама хоть одну бляшку обточить».
Хватилась, а камня подходящего нет. Обломки Данилушковой дурман-чашки остались, да Катя берегла их. В особом узле они были завязаны. И Прокопьича камня, конечно, много было. Только Прокопьич до смерти на больших работах сидел. Ну, и камень все крупный. Обломышки да кусочки все подобрались — порасходовались на мелкую поделку. Вот Катя и думает:
«Надо, видно, сходить на руднишных отвалах поискать. Не попадет ли подходящий камешок».
От Данилы да и от Прокопьича она слыхала, что они у Змеиной горки брали. Вот туда и пошла.
На Гумешках, конечно, всегда народ: кто руду разбирает, кто возит. Глядят на Катю-то — куда она с корзинкой пошла. Кате это нелюбо, что на нее зря глаза пялят. Она и не стала на отвалах с этой стороны искать, обошла горку-то. А там еще лес рос. Вот Катя по этому лесу и забралась на самую Змеиную горку, да тут и села. Горько ей стало — Данилушку вспомнила. Сидит на камне, а слезы так и бегут. Людей нет, лес кругом, — она и не сторожится. Так слезы на землю и каплют. Поплакала, глядит — у самой ноги малахит-камень обозначился, только весь в земле сидит. Чем его возьмешь, коли ни кайлы, ни лома? Катя все-таки пошевелила его рукой. Показалось, что камень не крепко сидит. Вот она и давай прутиком каким-то землю отгребать от камня. Отгребла, сколько можно, стала вышатывать. Камень и подался. Как хрупнуло снизу, — ровно сучок обломился. Камешок небольшой, вроде плитки. Толщиной пальца в три, шириной в ладонь, а длиной не больше двух четвертей. Катя даже подивилась.
— Как раз по моим мыслям. Распилю его, так сколько бляшек выйдет. И потери самый пустяк.
Принесла камень домой и сразу занялась распиливать. Работа не быстрая, а Кате еще надо по домашности управляться. Глядишь, весь день в работе, и скучать некогда. Только как за станок садиться, все про Данилушку вспомнит:
— Поглядел бы он, какой тут новый мастер объявился. На его-то да Прокопьичевом месте сидит!
Нашлись, конечно, охальники. Как без этого… Ночью под какой-то праздник засиделась Катя за работой, а трое парней и перелезли к ней в ограду. Попугать хотели али и еще что — их дело, только все выпивши. Катя ширкает пилой-то и не слышит, что у ней в сенках люди. Услышала, когда уж в избу ломиться стали:
— Отворяй, мертвякова невеста! Принимай живых гостей!
Катя сперва уговаривала их:
— Уходите, ребята!
Ну, им это ничего. Ломятся в дверь, того и гляди — сорвут. Тут Катя скинула крючок, расхлобыснула двери и кричит:
— Заходи, нето. Кого первого лобанить?
Парни глядят, а она с топором.
— Ты, — говорят, — без шуток!
— Какие — отвечает, — шутки! Кто за порог, того и по лбу.
Парни хоть пьяные, а видят — дело нешуточное. Девка возрастная, оплечье крутое, глаз решительный, и топор, видать, в руках бывал. Не посмели ведь войти-то. Пошумели-пошумели, убрались да еще сами же про это рассказали. Парней и стали дразнить, что они трое от одной девки убежали. Им это не полюбилось, конечно, они и сплели, будто Катя не одна была, а за ней мертвяк стоял.
— Да такой страшный, что заневолю убежишь.
Парням поверили — не поверили, а по народу с той поры пошло:
— Нечисто в этом доме. Недаром она одна-одинешенька живет.
До Кати это донеслось, да она печалиться не стала. Еще подумала: «Пущай плетут. Мне так-то и лучше, если побаиваться станут. Другой раз, глядишь, не полезут».
Соседи и на то дивятся, что Катя за станком сидит. На смех ее подняли:
— За мужичье ремесло принялась! Что у нее выйдет!
Это Кате солонее пришлось. Она и сама подумывала: «Выйдет ли у меня у одной-то?» Ну, все ж таки с собой совладала: «Базарский товар! Много ли надо? Лишь бы гладко было… Неуж и того не осилю?»
Распилила Катя камешок. Видит — узор на редкость пришелся, и как намечено, в котором месте поперек отпилить. Подивилась Катя, как ловко все пришлось. Поделила по-готовому, обтачивать стала. Дело не особо хитрое, а без привычки тоже не сделаешь. Помаялась сперва, потом научилась. Хоть куда бляшки вышли, а потери и вовсе нет. Только и в брос, что на сточку пришлось.
Наделала Катя бляшек, еще раз подивилась, какой выходной камешок оказался, и стала смекать, куда сбыть поделку. Прокопьич такую мелочь в город, случалось, возил и там все в одну лавку сдавал. Катя много раз про эту лавку слыхала. Вот она и придумала сходить в город.
«Спрошу там, будут ли напередки мою поделку принимать».
Затворила избушку и пошла пешочком. В Полевой и не заметили, что она в город убралась. Узнала Катя, где тот хозяин, который у Прокопьича поделку принимал, и заявилась прямо в лавку. Глядит — полно тут всякого камня, а малахитовых бляшек целый шкап за стеклом. Народу в лавке много. Кто покупает, кто поделку сдает. Хозяин строгий да важный такой.
Катя сперва и подступить боялась, потом насмелилась и спрашивает:
— Не надо ли малахитовых бляшек?
Хозяин пальцем на шкап указал:
— Не видишь, сколь у меня добра этого?
Мастера, которые работу сдавали, припевают ему:
— Много ноне на эту поделку мастеров развелось. Только камень переводят. Того не понимают, что для бляшки узор хороший требуется.
Один-то мастер из полевских. Он и говорит хозяину потихоньку:
— Недоумок эта девка. Видели ее соседи за станком-то. Вот, поди, настряпала.
Хозяин тогда и говорит:
— Ну-ко, покажи, с чем пришла? Катя и подала ему бляшку. Поглядел хозяин, потом на Катю уставился и говорит:
— У кого украла?
Кате, конечно, это обидно показалось. По-другому она заговорила:
— Какое твое право, не знаючи человека, эдак про него говорить? Гляди вот, если не слепой! У кого можно столько бляшек на один узор украсть? Ну-ко, скажи! — и высыпала на прилавок всю поделку.
Хозяин и мастера видят — верно, на один узор. И узор редкостный. Будто из середины-то дерево выступает, а на ветке птица сидит и внизу тоже птица. Явственно видно и сделано чисто.
Покупатели слышали этот разговор, потянулись тоже поглядеть, только хозяин сразу все бляшки прикрыл. Нашел заделье.
— Не видно кучей-то. Сейчас я их под стекло разложу. Тогда и выбирайте, что кому любо. — А сам Кате говорит: — Иди вон в ту дверь. Сейчас деньги получишь.
Пошла Катя, и хозяин за ней. Затворил дверку, спрашивает:
— Почем сдаешь?
Катя слыхала от Прокопьича цены. Так и сказала, а хозяин давай хохотать:
— Что ты!.. Что ты! Такую-то цену я одному полевскому мастеру Прокопьичу платил да еще его приемышу Данилу. Да ведь то мастера были!
— Я, — отвечает, — от них и слыхала. Из той же семьи буду.
— Вон что! — удивился хозяин. — Так это, видно, у тебя Данилова работа осталась?
— Нет, — отвечает, — моя
— Камень, может, от него остался?
— И камень сама добывала.
Хозяин, видать, не верит, а только рядиться не стал. Рассчитался по-честному да еще говорит:
— Вперед случится такое сделать, неси. Безотказно принимать буду и цену положу настоящую.
Ушла Катя, радуется, — сколько денег получила! А хозяин те бляшки под стекло выставил. Покупатели набежали:
— Сколько?
Он, конечно, не ошибся, — в десять раз против купленного назначил, да и наговаривает:
— Такого узора еще не бывало. Полевского мастера Данилы работа. Лучше его не сделать. Пришла Катя домой, а сама все дивится:
— Вот штука какая! Лучше всех мои бляшки оказались! Хорош камешок попался. Случай, видно, счастливый подошел. — Потом и хватилась: — А не Данилушко ли это мне весточку подал?
Подумала так, скрутилась и побежала на Змеиную горку.
А тот малахитчик, который хотел Катю перед городским купцом оконфузить, тоже домой воротился. Завидно ему, что у Кати такой редкостный узор получился. Он и придумал:
— Надо поглядеть, где она камень берет. Не новое ли какое место ей Прокопьич либо Данило указали?
Увидел, что Катя куда-то побежала, он и пошел за ней. Видит — Гумешки она обошла стороной и куда-то за Змеиную горку пошла. Мастер туда же, а сам думает: «Там лес. По лесу-то к самой ямке прокрадусь».
Зашли в лес. Катя вовсе близко и нисколько не сторожится, не оглядывается, не прислушивается. Мастер радуется, что ему так легонько достанется новое место. Вдруг в сторонке что-то зашумело, да так, что мастер даже испугался. Остановился. Что такое? Пока он так-то разбирался, Кати и не стало. Бегал он, бегал по лесу. Еле выбрался к Северскому пруду — версты, поди, за две от Гумешек.
Катя сном дела не знала, что за ней подглядывают. Забралась на горку, к тому самому месту, где первый камешок брала. Ямка будто побольше стала, а сбоку опять такой же камешок видно. Пошатала его Катя, он и отстал. Опять, как сучок, хрупнул. Взяла Катя камешок и заплакала-запричитала. Ну, как девки-бабы по покойнику ревут, всякие слова собирают:
— На кого ты меня, мил сердечный друг, покинул, — и протча тако…
Наревелась, будто полегче стало, стоит — задумалась, в руднишную сторону глядит. Место тут вроде полянки. Кругом лес густой да высокий, а в руднишную сторону помельче пошел. Время на закате. По низу от лесу на полянке темнеть стало, а в то место — к руднику солнышко пришлось. Так и горит это место, и все камешки на нем блестят.
Кате это любопытно показалось. Хотела поближе подойти. Шагнула, а под ногой и схрупало. Отдернула она ногу, глядит — земли-то под ногами нет.
Стоит она на каком-то высоком дереве, на самой вершине. Со всех сторон такие же вершины подошли. В прогалы меж деревьями внизу видно травы да цветы, и вовсе они на здешние не походят.
Другая бы на Катином месте перепугалась, крик-визг подняла, а она вовсе о другом подумала:
«Вон она, гора, раскрылась! Хоть бы на Данилушку взглянуть!»
Только подумала и видит через прогалы — идет кто-то внизу, на Данилушку походит и руки вверх тянет, будто сказать что хочет. Катя свету не взвидела, так и кинулась к нему… с дерева-то! Ну, а пала тут же на землю, где стояла. Образумилась да и говорит себе:
— Верно, что блазнить мне стало. Надо поскорее домой идти.
Идти надо, а сама сидит да сидит, все ждет, не вскроется ли еще гора, не покажется ли опять Данилушко. Так до потемок и просидела. Тогда только и домой пошла, а сама думает: «Повидала все-таки Данилушку».
Тот мастер, который за Катей подглядывал, домой к этому времени выбежал. Поглядел — избушка у Кати заперта. Он и притаился, — посмотрю, что она притащила. Видит — идет Катя, он и встал поперек дороги:
— Ты куда это ходила?
— На Змеиную, — отвечает.
— Ночью-то? Что там делать?
— Данилу повидать…
Мастер так и шарахнулся, а на другой день по заводу шепотки поползли:
— Вовсе рехнулась мертвякова невеста. По ночам на Змеиную ходит, покойника ждет. Как бы еще завод не подожгла, с малого-то ума.
Братья-сестры прослышали, опять прибежали, давай строжить да уговаривать Катю. Только она и слушать не стала. Показала им деньги и говорит:
— Это, думаете, откуда у меня? У хороших мастеров не берут, а мне за перводелку столько отвалили! Почему так?
Братья слышали про ее-то удачу и говорят:
— Случай счастливый вышел. О чем тут говорить.
— Таких, — отвечает, случаев не бывало. Это мне Данило сам такой камень подложил и узор вывел.
Братья смеются, сестры руками машут:
— И впрямь рехнулась! Надо приказчику сказать. Как бы всамделе завод не подожгла!
Не сказали, конечно. Постыдились сестру-то выдавать. Только вышли да и сговорились:
— Надо за Катериной глядеть. Куда пойдет — сейчас же за ней бежать.
А Катя проводила родню, двери заперла да принялась новый-то камешок распиливать. Пилит да загадывает:
— Коли такой же издастся, значит, не поблазнило мне — видала я Данилушку.
Вот она и торопится распилить. Поглядеть-то ей поскорее охота, как по-настоящему узор выйдет. Ночь уж давно, а Катя все за станком сидит. Одна сестра проснулась в эту пору, увидела огонь в избе, подбежала к окошку, смотрит сквозь щелку в ставне и дивится:
— И сон ее не берет! Наказанье с девкой!
Отпилила Катя досочку — узор и обозначился. Еще лучше того-то. Птица с дерева книзу полетела, крылья расправила, а снизу навстречу другая летит. Пять раз этот узор на досочке. Из точки в точку намечено, как поперек распилить. Катя тут и думать не стала. Схватилась да и побежала куда-то. Сестра за ней. Дорогой-то постучалась к братьям — бегите, дескать, скорей. Выбежали братья, еще народ сбили. А уже светленько стало. Глядят — Катя мимо Гумешек бежит. Туда все и кинулись, а она, видно, и не чует, что народ за ней. Пробежала рудник, потише пошла в обход Змеиной горки. Народ тоже призадержался — посмотрим, дескать, что она делать будет.
Катя идет, как ей привычно, на горку. Взглянула, а лес кругом какой-то небывалый. Пощупала рукой дерево, а оно холодное да гладкое, как камень шлифованный. И трава понизу тоже каменная оказалась, и темно еще тут. Катя и думает:
«Видно, я в гору попала».
Родня да народ той порой переполошились:
— Куда она девалась? Сейчас близко была, а не стало!
Бегают, суетятся. Кто на горку, кто кругом горки. Перекликаются друг с дружкой: «Там не видно?»
А Катя ходит в каменном лесу и думает, как ей Данилу найти. Походила-походила да и закричала:
— Данило, отзовись!
По лесу голк пошел. Сучья запостукивали: «Нет его! Нет его! Нет его!» Только Катя не унялась.
— Данило, отзовись!
По лесу опять: «Нет его! Нет его!»
Катя снова:
— Данило, отзовись!
Тут Хозяйка горы перед Катей и показалась.
— Ты зачем, — спрашивает, — в мой лес забралась? Чего тебе? Камень, что ли, хороший ищешь? Любой бери да уходи поскорее!
Катя тут и говорит:
— Не надо мне твоего мертвого камня! Подавай мне живого Данилушку. Где он у тебя запрятан? Какое твое право чужих женихов сманивать?
Ну, смелая девка. Прямо на горло наступать стала. Это Хозяйке-то! А та ничего, стоит спокойненько:
— Еще что скажешь?
— А то и скажу — подавай Данилу! У тебя он… Хозяйка расхохоталась да и говорит:
— Ты, дура-девка, знаешь ли, с кем говоришь?
— Не слепая, — кричит, — вижу. Только не боюсь тебя, разлучница! Нисколечко не боюсь! Сколь ни хитро у тебя, а ко мне Данило тянется. Сама видала. Что, взяла?
Хозяйка тогда и говорит:
— А вот послушаем, что он сам скажет. До того в лесу темненько было, а тут сразу ровно он ожил. Светло стало. Трава снизу разными огнями загорелась, деревья одно другого краше. В прогалы полянку видно, а на ней цветы каменные, и пчелки золотые, как искорки, над теми цветами. Ну, такая, слышь-ко, красота, что век бы не нагляделся. И видит Катя — бежит по этому лесу Данило. Прямо к ней. Катя навстречу кинулась: «Данилушко!»
— Подожди, — говорит Хозяйка и спрашивает: — Ну, Данило-мастер, выбирай — как быть? С ней пойдешь — все мое забудешь, здесь останешься — ее и людей забыть надо.
— Не могу, — отвечает, — людей забыть, а ее каждую минуту помню.
Тут Хозяйка улыбнулась светленько и говорит:
— Твоя взяла, Катерина! Бери своего мастера. За удалость да твердость твою вот тебе подарок. Пусть у Данилы все мое в памяти останется. Только вот это пусть накрепко забудет! — И полянка с диковинными цветами сразу потухла. — Теперь ступайте в ту сторону, — указала Хозяйка да еще упредила: — Ты, Данило, про гору людям не сказывай. Говори, что на выучку к дальнему мастеру ходил. А ты, Катерина, и думать забудь, что я у тебя жениха сманивала. Сам он пришел за тем, что теперь забыл.
Поклонилась тут Катя:
— Прости на худом слове!
— Ладно, — отвечает, — что каменной сделается! Для тебя говорю, чтоб остуды у вас не было.
Пошли Катя с Данилой по лесу, а он все темней да темней, а под ногами неровно — бугры да ямки. Огляделись, а они на руднике — на Гумешках. Время еще раннее, и людей на руднике нет. Они потихоньку и пробрались домой. А те, что за Катей побежали, все еще по лесу бродят да перекликаются: «Там не видно?»
Искали-искали — не нашли. Прибежали домой, а Данило у окошка сидит.
Испугались, конечно. Чураются, заклятья разные говорят. Потом видят — трубку Данило набивать стал. Ну и отошли.
«Не станет же, — думают, — мертвяк трубку курить».
Подходить стали один по одному. Глядят — и Катя в избе. У печки толкошится, а сама веселехонька. Давно ее такой не видали. Тут и вовсе осмелели, в избу вошли, спрашивать стали:
— Где это тебя, Данило, давно не видно?
— В Колывань, — отвечает, — ходил. Прослышал про тамошнего мастера по каменному делу, будто лучше его нет по работе. Вот и заохотило поучиться маленько. Тятенька покойный отговаривал. Ну, а я посамовольничал — тайком ушел, Кате вон только сказался.
— Пошто, — спрашивают, — чашу свою разбил?
— Ну, мало ли… С вечорки пришел… Может, выпил лишка… Не по мыслям пришлась, вот и ахнул. У всякого мастера такое, поди, случалось. О чем говорить.
Тут братья-сестры к Кате приступать стали, почему не сказала про Колывань-то. Только от Кати тоже немного добились. Сразу отрезала:
— Чья бы корова мычала, моя бы молчала. Мало я вам сказывала, что Данило живой. А вы что? Женихов мне подсовывали да с пути сбивали! Садитесь-ка лучше за стол. Испеклась у меня чирла-то (яичница-глазуья. — Ред.).
На том дело и кончилось. Посидела родня, поговорили о том, другом, разошлась. Вечером пошел Данило к приказчику объявиться. Тот пошумел, конечно. Ну, все-таки уладили дело.
Вот и стали Данило с Катей в своей избушке жить. Хорошо, сказывают, жили, согласно. По работе-то Данилу все горным мастером звали. Против него никто не мог сделать. И достаток у них появился. Только нет-нет — и задумается Данило. Катя понимала, конечно, — о чем, да помалкивала.
Зелёная кобылка
Павел Бажов
В то лето, 1889 года, мы усердно занимались рыбной ловлей. Только это уж была не забава, как раньше. Ведь мы не маленькие! Каждому шел десятый год, все трое перешли в третье, последнее, отделение заводской школы и стали звать друг друга на “ша”: Петьша, Кольша, Егорша, как работавшие на заводе подростки. Пора было помогать чем-то семье. И вот мы сидели утрами на окуневых местах, вечерами выискивали ершей, в полдень охотились за чебаками. Наши семейные нередко хвалили за это.
— По рыбу в люди не ходим, свой рыболов вырос, — скажет при тебе мать. Иной раз отец одобрит:
— Хоть мелконька рыбка, а всё — ушка! Понятно, что такие разговоры подбадривали нас, но все-таки тут было что-то вроде шутки: говорят, а сами посмеиваются.
Вот бы так наудить, чтобы не смеялись! С полведра бы окуней, да всё крупных! Либо ершей-четвертовиков!
— Давай, ребята, сходим на Вершинки, — предложил вечером Петька. — Вот бы половили! Там, сказывают, всегда клёв. Сходим завтра?
— Не отпустят, поди, одних-то.
— Это уж так точно, не отпустят, — согласился Петька. — А мы так…
— Отлупят тогда.
— Не отлупят. Мы скажем, будто на Плески пошли либо к Перевозной на целый день, а сами туда…
— Наскочишь на кого на перевозе-то… Мало ли наших на Вершинки бегают. Яшку-то Лееину забыл? — сказал Колюшка.
— А мы трактом.
— Далеко так-то.
— Десять-то верст далеко? Ты маленький, что ли? Не дойдешь?
— Ну-ка, ладно нето, — согласился Колюшка. — Червей надо накопать, а завтра пораньше пойдем. Не проспим?
— У нас — Гриньша в утренней смене. Разбудит меня, — успокоил Петька.
Вершинки — это завод на той же речке Горянке, на которой жили и мы. Поселок при заводе был маленький, а пруд гораздо больше нашего, горянского. О рыбалке на этом пруду мы давно думали. Мешало одно — не отпускали. По зимней дороге до Вершинок считалось меньше пяти верст. Летом пешие рабочие ходили через Перевозную гору, от нее переплывали пруд на лодках или пароме и выходили на зимник. Этот путь был немногим больше пяти верст. Но ездить так было нельзя: хлопотливо с перевозом и очень крутой спуск с Перевозной горы. Ездили трактом вдоль пруда. Эта дорога была много длиннее. По ней до Вершинок считалось больше десяти верст. Выбрали мы эту длинную дорогу потому, что тут «е ждали встретить никого из знакомых взрослых. К тому же на перевозе у нас был враг — угрюмый старик перевозчик Яша Лесина. Раз как-то мы угнали у него лодку, так еле улепетнули. Вдогонку еще сколько орал:
— Я вас, мошенников! Поймаю, так оборву головы-то! Тому вон чернышу большеголовому первому! Колюшка потом, правда, говорил:
— Ну, этак он всем ребятам грозит. Где ему всех упомнить, кто лодку угонит.
Мы с Петькой, однако, побаивались:
— А вдруг узнает! Не зря же он про Петькину голову кричал. Заметил, видно.
Уйти из дому на целый день с удочками было просто. Сказались, что пошли до вечера на Пески, а то и к Перевозной горе. В ответ каждый получил строгий наказ:
— Гляди, чтобы к потемкам домой! Слышал? Открыто взяли по хорошему ломтю хлеба да по такому же тайком. Каждый не забыл по щепотке соли и нащипал в огороде лукового пера. Червянки были полны, и удочки приготовлены с вечера. Сначала шли хорошо. Было еще рано, хотя уже становилось жарко.
На пятой версте от Горянки есть участок Красин. Тут был когда-то железный рудник, потом около этого места мыли золото, а теперь по красноватому каменистому грунту весело журчали мелкие ручейки. Живая струя в жаркий день кого не остановит! Стали мы собирать разноцветные галечки. Потом кто-то сказал:
— Ребята, а вдруг тут самородок?
— А что ты думаешь — бывает. Поверху находят.
— Вот бы нам! А? Это бы так точно,—сказал Петька.
— Хоть бы маленький!
— Я бы первым делом жерличных шнурковкупил. На шестьдесят бы копеек! Три клубка.
— Найди сперва!
Самородок, конечно, не нашли, но по ручьям спустились к пруду, который в этом месте близко подходил к дороге. Как тут не выкупаться! И место как нельзя лучше.
После купанья стали осматривать свои запасы. У каждого было по два ломтя хлеба, по щепотке соли и по пучку лукового пера. До Спасова дня нам запрещалось рвать лук с головками, но у Петьки все-таки оказалось три луковицы, у меня — две. По поводу моих ломтей Петька заметил:
— Тебе, Егорша, видно, бабушка резала? Ишь какие толстенные.
У Колюшки не было луковиц, да и ломти оказались тоненькими. Петька выбрал самую большую луковицу и протянул ему:
— Бери, Медведко, да -вперед учись у больших!
— Ну-к, я, поди-ка, старше тебя.
— На месяц? О чем говорить! Ты вот лучше померяйся со мной! Увидишь, кто больше.
Я отделил Колюшке половину своего ломтя, но уж ничего не сказал. Наши отцы все жили не звонко, но Колюшке все-таки приходилось хуже всех.
Когда так подравняли запасы, все отломили по кусочку.
— Эк, с лучком-то! Это так точно! — воскликнул Петька.
— Здорово хорошо.
— Промялись. Пять верст прошли.
— Ребята, дорога-то как кружит! Сколько идем, а Перевозная гора — тут она. Совсем близко.
— Сперва ведь Мохнатенькую обходили. Она вон какая широкая!
— Про что я и говорю. От Перевозной к этому бы месту.
Под разговоры о прямой дороге мы незаметно и съели весь хлеб до крошки. У каждого осталась лишь соль — было с чем уху сварить. И посуда была: все трое вместо корзинок тащили на этот раз по ведерку.
Выкупались еще раз, “на дорожку”, и пошли. После еды и купанья идти стало легче, приятнее. Стали заглядывать в лес, не попадутся ли ягоды.
Вдруг Петька закричал:
— Ребята, зеленая! У куста села! И он бросился к кусту, из которого сейчас же выпрыгнула большая ярко-зеленая кобылка. Мы не хуже Петьки знали, что на такую кобылку хорошо берет крупный елец и чебак, и тоже стали ловить ее. Такая кобылка встречается не часто и очень далеко прыгает. Втроем все-таки одолели, и Петька понес полузадавленную добычу. Мы ему наказывали:
— Гляди, Петьша, не выпусти! Они страсть живучие!
Петька хвастливо уверял:
— У нас не вырвется! Не такому попала! Петькино хвастовство показалось обидным.
— Подумаешь! Ловко не выпустить-то, коли я ее раз прихлопнул да другой раз ножку обломил. Куда поскачет хромая-то?
Мы предлагали Петьке: “Давай я понесу”, но он важничал, напоминал, что это он увидел и поймал кобылку.
— Вот хвастун! Еще бы не поймать, коли мы ее оглушили! Задается теперь. Да мы такого барахла сколько хочешь наловим.
Не сговариваясь, мы с Колюшкой бросились ловить кобылок. Их было много. Чаще всего попадались жирные желтяки, которые смолку дают. Зажмешь такую в кулак, поскачешь кругом на одной ножке да попросишь: “Кобылка, кобылка, дай мне смолки!” — она и выпустит каплю. Черная, густая, как есть смола! Много было серовиков, каменушек, остроголовиков. Реже попадались черные летунцы, но зеленой не было.
Петька посмеивался:
— То, да не то. Не то-о!
Зато наша добыча не требовала такой охраны, как Петькина. Сдавишь пойманным головки и бросаешь в ведерко. Там они и ползают вокруг тряпочки с солью и смолку оставляют, хоть их никто не просит.
Мы так занялись ловлей кобылок, что Петька взвыл:
— Ребята, что всамделе! Кобылок мы пошли ловить али на Вершинки за рыбой? Пойдем скорее! Мало ли таких кобылок! Неси мою, кому охота.
— Ага, покорился!
Я осторожно перехватил зеленую кобылку, и мы зашагали по дороге. Вскоре вышли на урочище речки. По настоящему, это два рукава нашего горянского пруда, через которые переброшены мосты. Один побольше, другой вовсе маленький. Первый прошли спокойно, но на втором остановились. Соблазнило место. В тихой воде были видны заросли щучьей травы, расположенной грядами. По воде плавали на гибких стеблях круглые листья купавок, и везде расходились большие и маленькие круги от плавившейся рыбы.
Как пройти мимо такого места с зеленой кобылкой? Только Колюшка настойчиво твердил:
— Пошли, ребята, до места! Тут вовсе близко, версты, поди, не будет.
Уговорить нас все-таки ему не удалось.
— Мы только попробуем. Скорехонько. Ты иди потихоньку один.
Когда Петька разматывал удочку, Колюшка еще пригрозил:
— Глядите, ребята, заведет вас эта зеленая!
— Куда заведет?
— А вот увидишь. Как вечером драть станут, так поминай меня.
— Тебе какая печаль?
— Ну-к, мне столько же попадет. Знаешь ведь у нас матери? “Заединщина — заодно и получай!” Только и слов у них, а отцы похваливают: “Пущай без обиды растут!” Говори вот вам!
— Не бойся, Кольша! Мы только два разичка. Это уж так точно. Без этого не пойдем.
Петька насадил кобылку, поплевал ей на головку и забросил в середину самого дальнего прогала, какой можно было достать удочкой. Не прошло и полминуты, как поплавок глубоко нырнул, удилище дрогнуло, и Петька, закусив губу, как в драке, выметнул на мост большую рыбину. Это был елец, но Петька для важности назвал его подъязком. Мы не спорили — уж очень крупный елец. Такого можно и подъязком звать. Петьке повезло: зеленая кобылка оказалась нетронутой, и он снова забросил соблазнительную приманку. Но на этот раз с оплавком было спокойно. Петька терпеливо ждал и в утешенье себе говорил:
— Подъязков-то в нашем пруду так точно, а мелочь и подойти боится.
Чтобы не стоять зря, мы с Колюшкой тоже размотали удочки. Колюшка попробовал на червя, и вышло неплохо. Мелкие окунишки брали “по-собачьи”, с трудом крючок достанешь. О насадке беспокоиться не приходилось — лишь бы прикрывала жальце крючка.
У меня тоже стали клевать мелкие ельцы и чебачишки. Петька все чаще начал коситься в нашу сторону, но все еще надеялся на свою зеленую кобылку.
— Пф! Мелочь у вас! Такая к моей кобылке небось не подойдет.
Но вот у него потянуло поплавок. Петька насторожился, опять закусил губу, ловко подсек и вымахнул малюсенького чебачишку. Мы с Колюшкой захохотали.
— О-о! Замах большой — добыча малая.
— Вот тебе и боятся!
Петька сорвал с крючка чебачишку, швырнул его в воду, раскрошил и разбросал по мосту свою зеленую кобылку.
— Пошли нето, ребята! Пошевеливайся! Но у Кольки брали окунишки, и он не прочь бы тут остаться до вечера.
— Клюет ведь. Чего еще? Тут бы поудили — да домой.
— Эх ты, маленький! Шли-шли, до порога не дошли, постояли да назад пошли. Разве это рыба? А там, может, таких надергаем, что ну!..
— Ну-к опоздаем, а мне уж поесть охота. Упоминание о еде было вовсе ни к чему — есть всем хотелось. В знакомых местах мы хорошо умели узнавать время по солнцу, а здесь как? С моста нам виден был рукав пруда. Извилистые берега так густо заросли ивняком и ольховником, что выхода ни в ту, ни в другую сторону не было видно. Рукав походил на озерко или на зарастающую старицу. С которой стороны тут восход, где полдень? Спросить бы у кого, сколько времени. На наше счастье, по длинному мосту загремела телега. Ехала какая-то женщина.
— Тетушка, который час?
— Не знаю, ребятишки. Из больницы я. Долго там просидела. Час, поди, пятый, а то и больше.
Ясно, она не знала. Откуда пятый, коли вовсе недавно утро было! Не может быть.
— Опоздаем, ребята! Слышали — пятый час! — попытался отговорить Колюшка.
— Не знает она. Насиделась в больнице — вот ей и показалось. Пошли!
В лесу под выстрелами
В маленьком Вершинском поселке все дома вытянулись одинаркой вдоль тракта. Ближе и удобнее было идти трактом, но мы побоялись вершинских ребятишек: поколотят да еще удочки поломают. Не любят наших — горянских.
Решили обойти поселок по заогородам, но это оказалось не очень удобно. Одни огороды были покороче, а другие глубоко уходили в лес. Петька шутил:
— Самые окуневые места! Закидывай, ребята! Вон под сосной щука метнулась! Жерлицу бы тут, а? В самый раз!
Наконец попался какой-то особо длинный участок. Обходили-обходили его и вышли на зимник, по которому летом ходили на перевоз, а зимой ездили.
Широкая полоса зимней дороги между ровными стенами соснового бора оказалась чудесной. Вся она заросла белой ромашкой, сиреневой блошникой, желтой мыльнянкой, голубыми колокольчиками, малиновым иван-чаем. Над хрупкими, осыпающимися цветами мыльнянки вились какие-то редкие пестро-синие бабочки. Около длинных цветов иван-чая жужжали медуницы, гудел шмель, летали мелкие пичужки. По пестрой полянке чернели плотно утоптанные тропинки — “рабочий ход”.
— Ребята, обратно этой дорогой пойдем, по рабочему ходу, а?.. Я тут цветков нарву нашей Таютке, — сказал Петька.
— А Лесины не боишься? — спросил Колька.
— Не узнает в потемках-то. Вершинскими скажемся. Перевезет?
Решив так, мы вперегонку побежали по тропинкам. Уж очень они хорошо утоптаны, и так их много. Долгоногий Петька, как всегда, опередил всех нас. Колюшка отстал. Там, где красивая полянка зимника перешла в каменистый пустырь, Петька остановился и закричал:
— Гляди-ка, Егорша, масляник ровно бежит. Низенький Колюшка и верно походил на молодой, крепкий масляк. Бежал он ровно, подавшись всем телом вперед. Круглая голова и густые, плотно лежащие волосы медного цвета еще больше делали его похожим на грибок, когда он только что вылезает из земли.
— Отстал, маленький?
— Ну-к что! Зато я этак-то хоть версту пробегу, а ты язык высунешь.
— Ну…
— Вот те и “ну”… А ты задерешь башку, руками замашешь… Кто так бегает?
— У тебя поучиться?
—Хоть бы и у меня. Не думай, что ноги долгие, так в этом сила. Дых-от у меня лучше. Вишь, ровно и не бежал, а ты все еще продыхаться не можешь.
Это был старый спор. Петька в нашей тройке был выше всех. Худощавый, длиннорукий, с угловатой головой на длинной шее, он легко обгонял нас. Но бегал он неправильно — закидывал голову и сильно размахивал руками. Оба мы старались уговорить Петьку, чтобы он “бегал по правилу”, а Петька щурил свои черные косые глаза, взмахивал головой и говорил:
— Эх вы, учители! А ну, побежим еще.
Под этот спор мы прощли половину пустыря. Тут справа от него выходила торная дорожка с прииска Скварец. Прииск совсем близко. Не только гудки слышно, но шум машины и поскрипывание камня под дробильными бегунами.
По этой дороге со Скварца “гнал на мах” какой-то крутолобый старичина в синей полинялой рубахе, в длинном холщовом фартуке, в подшитых валенках, но без шапки. Фартук сбился на сторону и трепыхался, как флаг. Старик был в таком возрасте, в каком обычно уже не гоняют верхом.
Глядя, как он, сгорбившись, высоко подкидывал локти, мы расхохотались, а Петька крикнул:
— Ездок — зелена муха! Пимы спадут! Старику, видно, было не до нас. Он даже не посмотрел в нашу сторону, направляя лошаденку к заводской конторе.
— На телефон пригнал. Случилось, видно, что-нибудь на Скварце, — сделал я предположение.
— Случилось и есть! — подтвердил Петька. — Не без причины караульный пригнал. Это уж так точно.
— Почему думаешь, караульный?
— На вот! Не видишь — старик, в пимах, в запоне. Кому быть?
— Пожар, поди…
— А гудок где? Завывало бы, а видишь — молчит. Нет, тут другое.
— Золото украли?
— Украдешь, как же! Тятя сказывал — большая строгость у них. Стража там, начальство… Подступу нету. Всякого обыскивают. Догола раздевают. Украдешь! Так точно.
— А много на Скварце рабочих?
— С тысячу, а то и больше.
— И все в земле? — спросил Колюшка.
— Ты думал — на облаке? — захохотал Петька.
— Ну-к, мало ли. У машин там либо еще где.
А где они живут?
— Казармы там. Помногу в одном доме живут. Больше пришлый народ. Отовсюду. И наши, заводские, есть. Только они домой бегают через перевоз.
По приисковой дороге опять показались две лошаденки, запряженные в песковозки. На той и другой таратайке стояли женщины, размахивавшие концами вожжей. Из лесу наперерез им вылетел на высокой, гнедой лошади стражник с зелеными жгутами на плечах и заорал:
— Куда вы? Поворачивай сейчас же! Женщины что-то кричали в ответ, но нам не было слышно. Потом они поворотили лошадей и трусцой поехали обратно, а стражник направился к конторе. Старик уже вышел из конторы, и около него толпилось человек десять — пятнадцать. Стражник что-то сказал старику. Тот закивал плешивой головой, взобрался с чурбана на лошадь и поехал обратно. На этот раз шагом. Стражник еще что-то говорил около конторы. Часть людей торопливо побежала к поселку, а часть пошла к зимнику. За ними поехал и стражник.
Старик остановился у леса, привязал лошадь к сосне, сел на пенек, достал кисет и стал курить цигарку.
— Это так точно… — проговорил Петька.
— Что — так точно?
— Видел — горная стража выскочила?
— Ну?
— Ну и ну… Только и всего. На плотине с дребезжаньем прозвучало пять ударов колокола.
— Пошли, ребята! Вон уж сколько часов!
— Верно тетка-то говорила. Опоздаем мы.
— Часика два порыбачим — и домой. Пруд был тих и пустынен. Только на мостике между ледорезами стоял человек с удочкой да в дальнем заливе виднелся одинокий рыбак на лодке.
Место для рыбалки мы выбрали удачно. Колюшка первый вытащил довольно порядочного окуня. Потом пошло и у нас. Петька уже хвастался:
— Полторы четверти от хвоста до головы! Винтом шел. Еле выволок его!
Два часа промелькнули, как миг. Когда плотинный караульный отдал семь ударов, Колюшка стал сматывать удочки.
— Ну-к, ребята, хватит! Тоже не близко, хоть и по перевозу. То да се — дождемся потемок.
— Испугался?
— Испугался не испугался, а пора. Есть мне охота.
— У тебя только и разговору, что об еде.
— Ну-к, к слову я…
— Опять закословил!
Спускаясь с плотины, мы увидели, что старик сидит на том же пне, а около сосны стоит привязанная лошадь.
— Видно, стражник ему велел дорогу караулить. Оттуда не выпускают, а туда? Пустят — нет?
— Дедко, что там случилось? — крикнул Петька.
— Свинушка отелилась, — откликнулся старик.
— Нет, ты скажи толком.
— Толком — с волком, со мной — шутком.
— Свадебщик, видно, — догадался Петька и звонко закричал: — Ездок — зелена муха! Пимы потерял!
— Я потерял, ты подобрал — кто вором стал? — откликнулся старик.
— Тьфу ты, стара шишига, не переговоришь такого! — плюнул Петька.
Не много успели пройти по пестрой полянке зимника, как где-то близко — нам показалось, в лесу, слева, — раздался выстрел. Было время охоты на боровую птицу, и выстрелы в лесу были не редкостью. Только тут происходило что-то непонятное. Не прошли и десяти шагов — опять выстрелы. На этот раз часто, один за другим. Снова одинокий выстрел, и опять — раз, два, три…
— Ходу, ребята! — крикнул Петька и бросился с полянки в лес направо, туда, где мы пробирались, когда шли вперед.
На полянке зимника было еще совсем светло, а в лесу уже стало по-вечернему неприветно, глухо, угрюмо.
Бежать лесом с удочками и ведерками не так удобно, и наш Кольша растянулся. Он сломал удилище, поцарапал себе руку и рассыпал своих окуней. Невольная остановка, пока собирали рыбу, нас немного образумила.
Куда бежим? Зачем?
Выстрелов больше не было, и мы отправились обратно к зимнику. На опушке оказался какой-то молодой мужик в розовой, измазанной глиной рубахе. Заметив нас, он негромко спросил:
— Вы куда?
— На перевоз. В Горянку нам.
— Не велено тут! Вон, гляди, стражники… Вдали мы увидели человек пять стражников. Разъезжал и тот, который заворотил женщин на прииск. Притаившись за деревьями, мы стали спрашивать мужика:
— Дяденька, а как нам в Горянку-то?
— Трактом попытайтесь.
— Тут-то хоть что?
— Ловят одного…
— Кого?
— Ну, начальство знает. Отойдите-ка, а то еще налетит. Вишь, сюда глядит…
— Кто стрелял-то?
— А мне видно? Стражники, поди… Может, и тот стрелял.
— Кто?
— Да которого ловят… Уходите, ребята. Не велено сказывать. Политика он… Поняли? Уходите сейчас же.
Слово “политика” мы слыхали. Взрослые в наших семьях говорили это слово с опаской, потихоньку, но с уважением. Зато наш уличанский подрядчик Жиган орал на всю улицу, когда рассчитывался со своими рабочими:
— Вы что? Политика али что? Научились, главное дело, в чужом кармане считать! Покажу вот дорожку! Покажу! Становому сказать — живо отправит. Сибирь-то, она, брат… На всех, главное дело, хватит!
Опять послышались выстрелы. Редкие, гулкие, но тех, коротких и быстрых, на этот раз не было. Стражи ник на гнедом коне поскакал во весь опор к перевозу.
— Углядел что-то, коршун! — промолвил мужик в розовой рубахе.
Выстрелы стали чаще, но всё такие же гулкие.
— Нашли дурака! Так он вам и покажет, где сидит!
— Он где?
— Кто знает, может — в этом лесу, может — давно через тракт перебежал. Ищи тогда! Простоим ночь у пустого места.
— Ты караулишь?
— Поставили, вот и стою. Что станешь делать! А вы лесом-то не ходите, прямо на огороды нравьтесь. Перелезете где-нибудь да по тракту и ступайте, а то еще под нечаянную пулю попадете.
Мы послушались совета. Пошли прямо на огороды, перелезли через прясло, прошли лесной участок и вышли на разделанное под огород место. Огород упирался в глухую стену надворных построек, проездные ворота были заперты. Постройки были хорошие, под железными крышами. Видно, это был дом какого-нибудь заводского начальства.
Перешли еще два-три огорода, а все то же: глухая стена построек и запертые ворота. Наконец попался нам “голый дом”, у которого стояла одна покосившаяся конюшенка без крыши. Через наружное прясло, виден был тракт. Это как раз нам и надо было. И гряды здесь шли вдоль — удобно для выхода.
— Ну-к что, пошли, ребята! — И Кольша, помахнвая ведерком и обломками удилища, пошел по борозде между картофельными грядами, мы — за ним.
В это время яростно залаяла собачонка, выбежавшая из-за конюшенки. За собачонкой вылетела женщина в синем платке, с какой-то узенькой крашеной дощечкой, должно быть, от кросен.
Женщина угрожающе взмахивала дощечкой и кричала:
— Я вас, негодников! Нарву вот крапивы… Кольша, однако, спокойно шел прямо на женщину. Он у нас всегда такой! Без сноровки и в драку ходил. Мы, конечно, поторопились поддержать товарища:
— Мы, тетенька, не воровать…
— Нам только на улицу перелезть.
— Что вам тут за дорога? — спросила женщина помягче.
— Не пускают зимником-то, велят по тракту. Мы и пошли огородом. Ничего не рвали, хоть обыщи!
Женщина цыкнула на собачонку и совсем спокойно стала спрашивать, чьи мы, как сюда попали и что видели на зимнике.
Когда мы рассказали, женщина раздумчиво проговорила:
— И здесь, поди, вас не пропустят. Возчиков вон всех заворотили. До Речек, слышно, облаву протянули. Недавно ваш горянский на паре лошадей шестерых стражников привез. Как быть-то? Ночевать, видно, вам у меня. А дома-то, поди, ждать будут. Спрашивались хоть у матерей-то?
— Нет, тетенька. Не спрашивались.
— Ох, ребята, горе с вами! На-ко, куда не спросясь убежали! Как теперь, а?.. Темно ведь скоро будет, а то бы по Коровьему прошли, а там берегом. Забоитесь по потемкам-то?
— Не забоимся, тетенька! Не маленькие, поди.
— Видать! Так вы, нето, по заогородам ступайте. Тут их всего восемь осталось. У последнего-то огорода, от крайнего столба, прямехонько идти. Тропки там пойдут к болоту — оно ныне сухое. Ишь, в огороде-то все сгорело. Вдоль того болотца и ступайте. Оно вас к пруду выведет. Там мысок есть. На этой стороне мысок и на той мысок. Это и будет Коровье. Тут хоть широконько, а мелко: коровам по брюхо. Мы тут когда бегаем… в обход мостиков. Много короче выходит. А дальше — тропка, прямехонько к Перевозной горе. Знаете, поди, те места?
На плотине пробило девять. Колюшка не поверил:
— Просчитался дедко. Девять отбил!
— Девять и есть, — подтвердила женщина. Когда мы пошли обратно к пряслу, она остановила нас:
— Постой-ко, ребята, я вам хоть по кусочку дам. Есть захотели, поди, рыболовы?
Отказываться мы, конечно, не стали, и женщина вынесла нам три ломтика круто посоленного ржаного хлеба.
— Передайте матерям-то поклончик от Настасьи Огибениной. Пущай хорошенько вас надерут! — И сейчас же предупредила: — Вы, ребята, через прясла-то не ползайте. Тут через два огорода такие кикиморы живут. Придумали цепную собаку в огород cпускать. Оборвет пятки-то. По заогородам идите! Да не забывайте — от последнего столба прямо. А как переходить станете, на мысок правьтесь. Направо-то глубоко. Не утоните хоть!
— Мы, тетенька, плавать умеем.
— Сажёнками, по-собачьи, по-лягушачьи. Это уж так точно.
— Вижу, что мастера. По три раза на день таких драть, и то, поди, мало. Ох, ребята, ребята!..
И вот мы опять в лесу, за огородами. Хлеб тетушки Настасьи оказался летучим — в минуту ни у кого не оказалось.
— Лучше бы она и не давала! — печально вздохнул Колюшка, а Петька набросился:
— Ты опять о хлебе! Под ноги гляди. Рыбу не рассыпь. Смотри, тихо, ребята! В оба гляди!
В лесу становилось темно. Трава под ногами потемнела и казалась мертвой. Откуда-то появилось много мелких черных сучьев. Куда ни ступишь — хрустят. Пока пробирались по заогородам, лес был “свечкой”, и от крайнего столба пошел “мохнач”, какой растет около болот. В таком лесу, да еще с большой примесью мелкого, и днем на пяти шагах человека не найдешь, а вечером и подавно. Тропку все-таки нашли без труда, и она вывела нас к болоту. Идти стало хуже. То и дело под ноги подвертывались узкие сухие кочки с глубокими провалами между ними. Провалишься — и под ногой обязательно хрустнет. Откуда только насыпалось столько всякой дряни! А Петька шипит:
— Ш-ш… ты! Тихо! Слышишь — говорят. Болото подходило местами близко к тракту. Оттуда вдруг послышались голоса:
— Не иголка, главное дело… Кругом обложено. Укажут ему дорожку, укажут Сибирь-то, она на всех, главное дело, хватит.
— Не горячись ты, сват! Может, он близко где… слышит тебя.
— А я боюсь? Да мне, главное дело, попадись только: сразу — прощай, белый свет…
Дальше не стало слышно, но мы все узнали, что это говорил наш уличанский подрядчик Жиган.
— Откуда тут Жиган? — прошептал Петька.
— Он, может, стражников-то и привез из Горянки. Тетенька про которых сказывала.
— И то… Тихо, ребята!
Болотце пошло влево, и голосов вовсе не стало слышно. Но от этого было еще страшнее. А вдруг заблудились! Уклон стал заметнее. Под ногами захлюпала вода.
— Она говорила, пересохло болото, а тут вода. Неладно, видно, идем, — сказал Кольша.
— К пруду пошло, то и вода. Не видишь — кусты там? Берег, значит… Тихо, ре…
Петька замер, не договорив слово. Остолбенели и мы.
Вправо от нас, прислонившись к сосне, сидел человек. В потемках нельзя было разобрать, молодой или старый, но без бороды и усов. Было видно, что одна нога у него разута, другая в сапоге. Правая рука была под широковерхой фуражкой, которая лежала на земле.
Человек сидел и молчал. Мы тоже молчали. Потом он попросил:
— Хлебца у вас, ребятки, нет? Кусочка…
Эти простые слова сразу успокоили. Даже веселее стало. Все-таки с большим, а то вовсе страшно в лесу.
Узнав, что у нас нет ни крошки, незнакомец стал нас расспрашивать, зачем мы сюда попали, кто наши отцы, где живут, куда мы идем.
Мы наперебой принялись рассказывать, а он то и Дело напоминал:
— Потише, ребятки, потише. Не кричите! Когда мы рассказали, что хотим перейти пруд бродом, незнакомец заговорил быстрее, короче:
— Брод? Где? За этими кустами? Мне бы с вами.
Помолчав немного, незнакомец сказал:
— Ну-ка, ребятки, кто из вас покрепче? Этот вопрос в нашей тройке давным-давно был решен и сотни раз проверен. Мы с Петькой враз указали на Колюшку:
— Вот, дяденька, он.
— Этот? Всех меньше, а всех сильнее?
— Это уж так точно. Обоих оборает и на палке перетягивает. Медведком его зовем.
— Медведком? — усмехнулся незнакомец. — Ну-ка, подойди поближе. Встань вот сюда. Попытаем твою силу. — И он положил обе руки на плечи Колюшки, но сейчас же снял.
— Нет, ничего не выйдет. Идите вперед, ребятки, а я волоком за вами.
— Ты идти-то не можешь? — спросил Колюшка.
— То-то, Медведушко, не могу…
— Подстрелили тебя?
— Много узнаешь — дедком станешь. Иди.
— Ну-к, я сапог, нето, твой понесу.
— Это дело.
Незнакомец надел свою фуражку. Под ней оказался большой револьвер. Сунув револьвер в левый карман куртки, раненый лег на правый бок, подогнул, насколько можно, здоровую яогу вместе с прижатой к ней раненой, оперся руками о землю и подтянулся вперед.
В густой заросли кустарника мы нашли извилистую, переплетенную корневищами, но широкую тропу. По ней, видно, спускались коровы, когда стадо пасли на этом лесном участке. Тропа выходила на песчаный мысок, о котором говорила тетушка Настасья. Брод и выход к дому были перед нами.
Мимо двойного караула
Петька первым выбежал на мысок и сейчас же зашипел на нас:
— Тш… тш… Тише вы! Разговор где-то…
Мы прислушались. Справа как будто доносились голоса, но так смутно, что Колюшка заспорил:
— В ушах у тебя, Петьша, звенит.
— Как не так! Слушай хорошенько. Вот…
На этот раз довольно ясно донесся смех. Петька побежал к раненому, который с трудом, тихо постанывая, пробирался по коровьей тропе.
— Там, дяденька, разговаривают. Много…
— На том берегу?
— Нет, на этом же, только подальше.
— Ну погоди — сам послушаю, а вы потише. Раненый подполз к самому берегу и стал прислушиваться.
— Говорят где-то. Не близко только. Это по воде наносит. Потише все-таки нам надо. Как бы не услышали. Ну, кто первый брод пытать будет?
Мы не заставили себя ждать, но Петька все же опередил. Он был уже в воде и хвалился:
— Как щелок, вода-то! Теплехонькая.
— Тише, ребятки! Не булькайтесь! Если глубоко, лучше вернитесь, — посоветовал раненый.
Брод оказался удобным, но в одном месте, ближе к тому берегу, было все-таки глубоко. Переползти тут и высокому человеку было невозможно.
Выбравшись на другой берег, все мы, стуча зубами от холода, первым делом решили:
— Нет, не переползти ему.
— Глубоко. Где переползти!
— Кольше до самого горла доходит. Куда! Подскакивая на песке, я уколол себе ногу. Ухватившись рукой за больное место, нащупал что-то легонькое. Оказалась сломанная сережка.
— Гляди-ка, ребята!
— Может, золотая?
— Золотая! Кому тут золото терять. Медяшка — это так точно. Пятак пара… Постой-ка, ребята… может, тут перевоз вовсе близко. Сбегать бы поглядеть. Вон она, тропка-то!
— Без рубах?
— Ночь ведь.
— Холодно…
— А мы бегом.
— Ну-ка, а тот?
— Что тот?
— Подумает — убежали…
— Это так точно. Тогда, нето, вот как… Ты ступай к нему, а мы с Егоршей сбегаем. Нельзя ли там лодку подцепить. Так ему и скажи: лодку, мол, искать пошли, а без этого ему не переползти.
— А если вас поймают?
— Без рубах-то?
— Ну…
— Егорша тогда свистнет. Услышишь небось.
— Тогда погодите. Сперва я перебреду. Боюсь я один по воде-то.
Мы подождали, пока Колюшка переходил пруд, потом побежали по плотно утоптанной тропинке. Взошла луна, и по лесу легли белые полосы. Страху все-таки не стало. Мы знали, что позади нас люди и впереди, где-то близко, тоже. Дорожка была удобна. Она вывела нас к тем ручьям, где мы утром искали золото.
— Гляди-ка, Егорша, сколь мы давеча зря колесили. Тут вовсе прямо. А это уж к Перевозной горе пошло. Верно? Узнал место-то? Дураки были — кругом-то шли.
Под ногами пошел плитняк. Надо было выбирать, как лучше ступить, чтобы он не расползался и не гремел под ногами. На этом ползучем плитняке потеряли было тропинку, но вскоре нашли. Дальше опять она пошла хорошо убитая, удобная.
Место здесь было знакомое, и мы почувствовали себя еще лучше.
На перевозе было тихо. Недалеко от перевозной избушки горел костер. У костра спиной к нам сидели. двое. В одном мы сразу узнали Яшу Лесину. Другой был незнакомый. Паром и все четыре перевозные лодки стояли у этого берега. Паром приходился как раз перед избушкой, а лодки были зачалены вдоль берега, ближе к нам. С краю стояла тяжелая лодка, человек на двадцать. Выбирать, однако, не приходилось: только ее и можно было увести незаметно.
Петька указал пальцем на лодку, и оба мы, прячась за деревьями, стали спускаться к берегу. Осторожно сняли чалку с пенька, еще осторожнее вошли в воду и, пригнувшись за правым бортом, легко сдвинули и повели лодку. Делалось это молчком. Тишину нарушали только всплески крупной рыбы в пруду да глухой гул голосов около костра.
Под ногами опять пошел плитняк. В воде по нему идти было еще хуже. Влезли в лодку, сели за весла и поплыли, стараясь не шуметь. Лодка была тяжела для нас, но все же подвигалась, только виляла: то пойдет вглубь, то лезет прямо на берег. Каждому из нас показалось, что виноват другой, и мы до того забылись, что стали громко перекоряться.
— Потише, ребятки! — образумил нас голос с берега.
Это было так неожиданно, что мы оба чуть из лодки не выпрыгнули. Оказалось, что незнакомец с Кольшей давно услышали нас и сами позаботились найти удобное для причала место. Они выбрались повыше мыска. Незнакомец сидел на береговом камне, а рядом стоял Колюшка со всеми удочками, ведерками и нашей одеждой.
— Кормой подводи, ребятки! — распорядился раненый и, когда лодка зашуршала бортом о камень, похвалил: — В самый раз. Молодцы, ребятки. Замерзли, поди, без одежонки-то?
— Нет, дяденька. Вспотели даже.
— Скажите, как вам лодку пособило увести? Видели кого на перевозе?
Мы рассказали. Раненый спросил:
— Все, говорите, лодки у парома?
— Ну, а как же! Четыре их. Все они тут.
— На том берегу нет?
— Откуда!
— А вы глядели?
— Да не видно там. К кустам-то тамошним вовсе черно.
— Так, — проговорил раненый и еще раз спросил: — Не видно от парома тот берег?
— Нисколечко. Это уж так точно.
— У тебя отец из солдат, что ли?
— Нет, моего отца не брали. Вон у Егорши с Кольшей отцы в солдатах были.
— У них и научился?
— Такточнать-то?
— Ну…
— Да у меня тятенька этак не говорит, — заступился я за своего отца.
— А у меня? Кто слыхал? — отозвался Колюшка.
— Привычка такая… Это уж так точно, — потупился Петюнька.
— Эх ты, голован! Привычка старая, а годы малые! — рассмеялся раненый. — Ну, вот что, ребятки!.. Оделись? Ставь свои ведерки да удочки в лодку. К перевозу мне незачем. В той стороне, видно, ждут меня. Попытаем по этому берегу. Только вы, чур, молчок. Поняли? Кто бы ни спрашивал — ни одного слова! Ладно?
Нам стало не по себе.
— Теперь садитесь, ребятки, а я потом. Мы забрались в лодку. Раненый ловко перекинулся с камня на кормовую скамейку и стал готовиться в путь. Он первым делом вытащил из кармана револьвер и положил его на скамейку, под правую руку. Снял куртку и надел откуда-то взявшийся широкий рабочий фартук, повязал лицо платком, будто у него болят зубы. Только узел сделал не сверху, а на самом подбородке; Вместо фуражки надел вытащенную из кармана шляпу-катанку, в каких ходят на огневую работу.
У нас начался было спор, кому сидеть на веслах, но раненый строго приказал:
— Без спору! Сам расскажу, как надо. — И велел Петьке сесть к правому веслу, мне — к- левому, а Колюшке сказал: — Ты, Медведушко, в самый нос ступай да повыше как-нибудь взмостись. Не упади только.
Когда все приготовления кончились, раненый сильно оттолкнулся веслом от камня. Лодка теперь пошла без виляний и гораздо быстрее, чем у нас с Петькой. Держались не близко к берегу. Там, где берег делает крутой поворот направо, нас окликнули:
— Эй! Кто плывет? Отзовись!
Нас удивило, что незнакомец направил лодку на голос.
Не подплывая, однако, к берегу, он. спокойно отозвался:
— Тихонько говори! Вроде объезда мы. Стражники велели объехать.
— Так ведь мы караулим…
— Не верят, видно.
— Сами бы тогда и караулили! Гоняют народ. Мне утром-то, поди, на работу, — сердито сказал голос с берега.
— Нам, думаешь, на полати?
— То и говорю — мытарят народ.
— Кто у тебя с правой-то руки стоит? — спросил незнакомец.
— Поторочин Андрюха, из Доменной улицы… Слыхал?
— Как не слыхал — в родне приходится. А с левой руки кто?
— К перевозу-то? Никого нету. На краю стою.
—Как — нету? Стражники говорили — везде поставлены.
— Слушай ты их больше! Говорю, нету. Кого там караулить? Между зимником и трактом тот сидит. Коли он брод знает, и то не уйти. По всему тракту до самой плотины люди нагнаны и стражники ездят. Не уйти мужику. Вы не слыхали чего?
— Нет, не слыхали. Ты потише говори — не велено нам. — А ты испугался?
— Что поделаешь! У них палка, у нас затылок.
— То-то у тебя все как онемели! Ты сам-то хоть чей будешь?
— Не признал, видно?
— Не признал и есть.
— Подумай-ко… Делать-то все едино нечего.
— Скажись, кроме шуток.
— Не велено, говорю. Завтра все скажу.
— Шибко ты боязливый, гляжу.
— Да ты не сердись! Говорю, завтра узнаешь, а пока помалкивать станем.
И незнакомец махнул нам рукой — гребите. Мы налегли на весла, и лодка пошла под самым берегом.
На паромной пристани никого не было. Против, на Перевозной горе, все еще горел костер. Когда подплыли ближе к заводу, незнакомец проговорил:
—Ну спасибо, ребятки,—выручили наполовину. Как дальше будем? Еще помогать станете или уж будет? Натерпелись страху-то?
— Пусть другой кто боится. Мы не струсили! — сказал Петька.
— Ты за себя говори, а не за всех.
— Так мы, поди-ка, заединщина, — поспешил я поддержать Петьку.
—Ты что скажешь, Медведко?
— Ну-к, я — как Петьша с Егоршей.
— Тогда вот что, ребятки… Я вам покажу место, где меня искать. Только чтоб никому… Поняли? Мы стали уверять, что никому не скажем.
— Ни отцу, ни матери. Не то худо будет. Знаю ведь, в которой улице живете.
— Да что ты, дяденька, разве мы такие!
— Ну, мало ли… Славные будто ребятки, да не знаю ваших отцов. То и говорю так, а вы за обиду не считайте. Ну, а если выдадите, беда вам будет.
Когда мы стали уверять, что никому ни за что не скажем, раненый заговорил опять ласково:
— Ладно, ладно — верю. Слушайте вот, что вам скажу. Сейчас мы подплывем к просеке на Каранда-шеву гору. Тут еще рудник был. Знаете?
— Костяники там много по ямам бывает.
— Ну вот. Против этой просеки я и вылезу. Только не на берегу буду, а постараюсь на ночь переползти к покосной дорожке. Лес там мелкий, да густой. Вот там и буду вас ждать. А вы мне хлеба притащите да черепок какой под воду. Ладно?
Мы, конечно, согласились.
— А как меня искать будете?
— Придем туда, кричать станем, ты и отзовись.
— Вдруг не узнаю ваших голосов, тогда как?
— Тогда… тогда Егорша пусть свистнет. Он у нас первый по улице. Большие против него не могут. Так свистнет — сразу услышишь.
— Нет, ребятки, это не годится. Вы лучше так сделайте. Идите из Горянки по покосной дороге. Как Дойдете до Карандашевой горы, до просеки этой, поворотите на нее да к пруду и ступайте — и всё одну песенку пойте. Какую знаете?
— Ну, про железную дорогу:
Полотно, а не дорожка,
Конь не конь — сороконожка…
— Вот… Ее и поите потихоньку, а я отзовусь.
А если не отзовусь — значит, меня тут нет.
— Ты где будешь? — спросил Петька.
— Как придется. Сам не знаю. А теперь приставать станем. Вон она, просека-то.
Высадившись на берег, раненый посоветовал:
— Вы, ребятки, так под берегом и плывите. У крайних улиц где-нибудь и высадитесь. Ваша-то которая?
— Пятая с этого конца.
— Тогда пораньше. А то, поди, ждут вас — заметят. Да лодку-то оттолкните! Ее за ночь к плотине и унесет. Вишь, в ту сторону ветерком потянуло. Не проболтайтесь смотрите!
Оставшись одни, мы долго сначала молчали. Лодка у нас завихлялась. Колюшка перебрался к рулевому веслу, и все это молчком.
Первым заговорил Петька:
— Гляди, ребята, чтоб ни-ни! Колотить дома будут — говори одно: ходили на Вершинки.
— Отлупят все равно.
— Ну-к, про это что говорить…
— Это уж так точно. Готовьсь, ребята! Только чтоб ни словечка про того-то! Да хлеба-то припасайте. Покормят, поди, нас… Отлупят сперва, потом кормить станут. Не зевай тогда! Ты, Егорша, у бабушки еще попроси. Скажи, не наелся. Она тебе еще отрежет, а ты — в карман.
Была глубокая ночь, но в домах кое-где видны были огни. Фабрика молчала — был летний перерыв. Только над домной взлетали столбы искр.
Чем ближе мы подплывали, тем страшней становилось. Вот и Вторая Глинка. Через одну улицу наша Каменушка.
— Правь, Кольша, к плотику. Высаживаться, видно, надо.
Мы высадились на плотик, уложили весла в лодку, повернули ее носом вглубь, оттолкнули от плотика, а сами по гибким доскам вышли на берег. Пройти еще шесть-семь домов до переулка, пересечь Первую Глинку — и мы дома… Никто, однако, не радовался. Каждый только пошарил в своем ведерке и рыбу покрупнее вытащил наверх.
— Ну-к, я говорил — заведет нас зеленая... Вот и завела!
— Чудак ты, Кольша! Человека из беды выручили, а ты материной трепки испугался.
— А что, если, ребята, это конный вор? Сначала мы просто опешили от этого вопроса, потом принялись доказывать Кольше, что это он вовсе зря придумал, что конных воров народ ловит, а не стражники, револьверов у конных воров не бывает, а подпилок да веревка.
— Ну-к, я тоже думал — не вор, — успокоил нас Колюшка. — Это он сам, как мы вдвоем-то оставались, все про лошадей спрашивал. Я сказал, что у Жигана девять лошадей, а он говорит — это мне не надо, скажи про рабочих, у кого есть лошадь. Вот я и подумал, на что ему.
— Сказал про лошадей-то?
— Всех перебрал на нашей улице.
— А он что?
— Не знаю, говорит, этих людей.
— Ну, вот видишь! Он знакомого человека ищет и с лошадью. Перевезти его. Это уж так точно. А что, ребята, если Гриньше сказать? Он нашел бы лошадь.
— Выдумал! Тебе что говорили? Если скажешь — я с тобой не заединщик.
— И я тоже.
— Ладно, ребята! Завтра спросим… про Гриньшу-то.
Все это говорилось на берегу. Лодку отнесло так Далеко, что едва можно было разглядеть. Домой все-таки надо идти.
Ох, что-то будет?..
Дома
У всех нас матери не спали.
Встретили “горяченько”, но вовсе не так, как мы ждали. Отцов у нас с Петькой не оказалось дома. По первым же словам мы поняли, где они.
Матери даже не спросили, как бывало раньше, когда мы опаздывали: “Что долго? где шатался? куда носило?”, а сразу перешли к приговорам:
— Я тебе покажу, как за большими гоняться! Будешь еще у меня? будешь? будешь?
— Больших угнали, а ты куда полез? Тебя кто спросил? кто спросил? кто спросил?
— Стражники наряжали? наряжали тебя? наряжали?
— Будешь помнить? будешь помнить? будешь помнить?
Вопросы, по обычаю тех далеких дней, подкреплялись у кого вицей, у кого — голиком, у кого — отцовским поясом. Мы с Петькой орали на совесть и отвечали на все вопросы, как надо, а терпеливый Колюшка только пыхтел и посапывал. За это ему еще попало.
— Наказанье мое! Будешь ты мне отвечать? Будешь? Будешь? Слышь, вон Егорко кричит—будет помнить, а ты будешь? А, будешь? Смотри у меня!
После расправы я сейчас же забрался на сеновал, где у меня была летняя постель.
Петька со своим старшим братом Гриньшей тоже спали летом на сеновале. Постройки близко сходились. У нас был проделан лаз, и мы по двум горбинам Легко перебирались с одного сеновала на другой. На этот раз Петька перелез ко мне и зашептал:
— Гриньша тут. Спит он. Потише говори, как бы не услышал. Про Вершинки-то сказал? — Нет. А ты?
— Тоже нет. Тебя чем?
— Голиком каким-то. Нисколь не больно. А тебя?
— Тятиным поясом. В ладонь он шириной-то. Шумит, а по телу не слышно. Гляди-ка у меня что! — И Петька сунул что-то к самому моему носу.
По острому запаху я сразу узнал, что это ржаной хлеб, но все-таки ощупал руками.
— Этот — большой-то — мне Афимша дала, а маленький — Таютка. Она с мамонькой в сенцах спит. Как я заревел, она пробудилась, соскочила с кошомки, подала мне этот кусок: “На-ка, Петенька!”, а сама сейчас же плюхнулась и уснула. Мамонька рассмеялась: “Ах ты, потаковщица!” Ну, а я вырвался да дёру. Под сараем Афимша мне и подала эту ломотину. Ишь, оцарапнула—это так точно!.. Еще, может, покормят. Не спят у нас. Ну, не покормят — мы этот, Таюткин-то, съедим, а большой тому оставим. Ладно?
Мне стало завидно. Ловко Петьке! У него четыре сестры. Таютка вовсе маленькая, а тоже кусочек припасла. А меня и не покормит никто.
Но вот и у нас во дворе зашаркали поземле башмаками. Петька толкнул меня в бок:
— Твоя бабушка вышла!
Смешной Петька! Будто я сам не знаю. Шарканье башмаков затихло у дверей в погребицу. Скрипнула дверка. Минуты две было тихо, потом послышался голос:
— Егорушко! Беги-ко, дитенок! Да, бабушку тоже неплохо иметь! Петька шепчет:
— Ты еще попроси. Не наелся, скажи. А сам не ешь! Почамкай только. Она не увидит.
Быстро спускаюсь с сеновала и подбегаю к погребице. Бабушка нащупывает одной рукой мою голову, а другой подает большой ломоть хлеба.
— Поешь-ко, дитятко! Проголодался, поди? Шуточно ли дело — с одним кусочком целый день. Да не поворачивай кусок-то. Так ешь!
По совету Петьки я начинаю усиленно чавкать, будто ем, и в то же время спрашиваю:
— Ты, бабушка, видела мою рыбу-то?
— Видела, видела… Хорошая рыбка. Завтра ушку сварим.
— Окуня-то видела… большого? Еле его выволок. С фунт, поди, будет. Будет, по-твоему?
— Кто знает… Хорошая рыбка… Как у доброго рыболова.
— Чебак там еще… Видела?
— Ну, как не видела… Все оглядела. Пособник ведь ты у меня! — И бабушка поглаживает меня по голове.
Я все время усердно чавкаю, потом говорю:
— Бабушка, я не наелся.
— Съел уж? Вот до чего проголодался! А мать-то и не подумает накормить! Сейчас я, сейчас… сметанкой намажу… Ешь на здоровье.
В это время хлопнула дверь избы, и мама звонко крикнула:
— Ты, рыболовная хворь! Иди-ко! Сейчас чтоб у меня!
Голос был строгий. Надо идти, а куда кусок, который я держал за спиной! Тут оставить — Лютра схамкает. В карман такой не влезет… Как быть? Сунул за пазуху—сметана потекла! Тоже бабушка! Всегда она так!
На столе оказались горячая картошка с бараниной, творожный каравай и крынка молока. Но приправа была горькая — мама плакала. Лучше бы она десять раз меня голиком, чем так-то. И я тоже разревелся.
— Не будешь больше?
— Не буду, мамонька! Вот хоть что… не буду. Засветло домой… всегда…
— Ну ладно, ладно… Хватит! Поешь вот. Один ведь ты у меня.
После этого я уж мог есть без помехи. На душе светло и весело, как после грозы. Но ведь надо еще тому запасти. Об этом я не забыл, да и забыть не мог: струйки сметаны с бабушкина ломтя стекали на живот и холодили. Было щекотно, но я все время поеживался и крепко сжимал ноги, чтобы не протекло. Как тут забудешь!
Припрятать что-нибудь, однако, было трудно. Мама стояла тут же, около стола, и смотрела на мою быструю работу. Бабушка тоже пришла в избу и сидела недалеко.
По счастью, в окно стукнули. Это Колюшкина мать зачем-то вызывала мою.
Тут уж надо было успеть.
Я ухватил два ломтя хлеба и сунул их за пазуху, а чтобы не отдувалась рубашка, заправил их по бокам. Быстро выбросил из правого кармана все, что там было, и набил его картошкой с бараниной. С левым карманом было легче. Там лишь берестяная червянка. Вытащить ее, выгрести остатки червей, наполнить карманы рыхловатым, тепловатым караваем — дело одной минуты. Когда мама вернулась, я был сыт и чувствовал бы себя победителем, если бы не проклятая сметана. Она уже ползла по ногам, и я боялся, что закаплет из левой штанины.
— Зачем Яковлевна-то приходила?
— Молока крынку унесла. Колюшку покормить. Ушка, говорит, оставлена была, да кошка добылась. Ну, а больше и нет ничего. Картошка да хлеб, а накормить тоже охота рыболова-то своего.
— Как ведь! Всякому охота своего дитенка в сыте да в тепле держать… Трудное у Яковлевны дело. Пятеро, все мал мала меньше, а сам вовсе старик. Того и гляди, рассчитают либо в караул переведут… На что только другой раз женился!
— Подымет Яковлевна-то. Опоясками да вожжами все-таки зарабатывает.
— Работящая бабеночка… что говорить, работящая, а трудненько будет, как мужниной копейки не станет. Ой, трудненько! По себе знаю.
Мне давно пора было уходить. Под разговор мамы с бабушкой я думал убраться незаметно, но мама остановила вопросом:
— Егоранько, вы хоть где были-то?
Вопрос мне вовсе не понравился. Неужели Колюшка про Вершинки выболтал? Как отговориться?
— Рыбачили мы…
— В котором, спрашиваю, месте?
— На Песках сперва… Тут Петьша подъязка поймал.
— Ну?
— А я окуня… большого-то…
Мама начала сердиться:
— Не про окуней тебя спрашиваю!
Но тут вмешалась бабушка:
— Да будет тебе, Семеновна. Смотри-ко, парнишка весь ужался, ноги его не держат… Выспится — тогда и расскажет. Ночь на дворе-то. Светать, гляди, скоро будет… Иди-ко, Егорушка, поспи.
Хорошая все-таки бабушка у меня! Когда подходил к порогу, она потрепала по спине и ласково шепнула:
— В сенцах-то, над дверкой, кусок тебе положила. Ты его возьми с собой, а утром съешь. Тихонько бери, не перевертывай.
— Со сметаной?
— Помазала, дитятко, помазала… Неуж одному-то внучонку пожалею… Что ты это! Что ты!
Я и без того знал, что бабушка не жалела. Очутившись в темных сенцах, первым делом полез рукой в левую штанину, чтобы остановить липкую сметанную струйку. Сметана будто ждала этого и сейчас же поползла еще сильнее во все стороны. Пришлось вытащить кусок и заняться настоящей чисткой — смазывать на пальцы и облизывать.
Тихо сидя на приступке, я слышал, как мама говорила:
— Из сыромятной кожи им надо карманы-то шить. Видела, как оттопырились? Чего только не набьют!
— Ребячье дело. Все им любопытно.
— А мнется что-то. Не говорит, где был. У Яковлевны-то эдак же. Знаешь ведь, он какой: не захочет, так слова не добьешься.
— Наш-то простой. Все скажет.
— Попытаю вот я завтра.
— Да будет тебе! Парнишко ведь — под стекло не посадишь.
Просто замечательная бабушка! Все как есть правильно у ней выходит.
Кусок с наддверья я снял и сложил с тем, что вытащил из-за пазухи. Теперь у меня четыре куска да оба кармана полны. Ловко! Куда только это? Изомнется, поди, в карманах-то… С ребятами надо сговориться, как завтра отвечать. С Петьшей нам просто, а вот как Кольшу добыть?
Через широкую щель забора поглядел к ним во двор. В избе все еще огонь. Колькина мать сидит за кроснами, ткет тесьму для вожжей. Спит, видно, Колька. В сенцах ведь он. Разве слазить? В это время у них скрипнула ступенька крыльца. Идет кто-то. Не он ли?
— Кольша, Кольша! — зашипел я в щель.
— Ну?
— Иди к нам спать! Петьша у нас же.
— Ну-к что, ладно. Мамонька до утра не увидит… — И Колька осторожно перелез через забор.
Петька был уже на нашем сеновале и встретил ворчаньем:
— Ты что долго? Разъелся без конца! Я уж давным-давно поел. Чуть не уснул, а его все нет! Достал хоть что-нибудь? Для того-то?
— Мы да не достанем! Четыре куска у меня. В одном кармане баранина с картошкой, в другом — каравай. Вот! — хлопнул я до карману.
— Молодец, Егорша! А я подцепил вяленухи два куска да полкружки горохового киселя. Тут, в сене, зарыл! Ну, хлеба не мог. Это так точно. Только и есть, что те два куска. Таюткин да Афимшин. Хватит, поди? Кольше вот не добыть. Плохо у них.
Колюшка, которого Петька не заметил до сих пор, отозвался:
— Картошка-то есть, поди, у нас. Семь штук в сенцах спрятал.
— Кольша! — обрадовался Петька. — Тебя-то и надо. Ты про Вершинки не сказывал?
— Нет, не говорил.
— Вот и ладно. Мы с Егоршей тоже не сказывали. Теперь как? Меня спрашивают, где были, а я и сказать не знаю. Про то, про другое говорю…
— У меня этак же. Мама спрашивает, сердиться стала, а я верчусь так да сяк,— отозвался я.
— Кольша, тебя мать-то спрашивала? Потом-то, как кормила?
— Спрашивала.
— Ты что?
— Ну-к, я сказал…
— Что сказал?
— Сказал… промолчал…
Это показалось смешно. Мы расхохотались. На соседнем сеновале завозился брат Петьки — Гриньша— и сонным голосом проговорил:
— Вы, галчата! Спать пора. Скажу вот…
Гриньша уснул, но мы уж дальше разговаривали шепотом. Сложили все запасы в одно место и уговорились завтра идти не рано, будто за ягодами.
Если будут спрашивать о сегодняшнем, всем говорить одно: удили у Перевозной горы, потом увидели — народ бежит, тоже побежали поглядеть, да на тракту и стояли. Ждали, что будет, а ничего не дождались. Так и не узнали. Говорят, кто-то убежал, его и ловили. Неугомонный Петька хотел было еще уговориться:
— А где мы зеленую кобылку ловили?
Но тут стал всхрапывать Колюшка. И у меня перед глазами стала появляться тихая вода, а на ней поплавок. Вот пошел… пошел… а!..
Петька все еще что-то говорит. Опять тихая вода, а на ней поплавок… Потянуло… Окунь! Какой большой! Тащить пора, а рука не подымается…
Каменный цветок
Павел Бажов
Не одни мраморски на славе были по каменному-то делу. Тоже и в наших заводах, сказывают, это мастерство имели. Та только различка, что наши больше с малахитом вожгались, как его было довольно, и сорт — выше нет. Вот из этого малахиту и выделывали подходяще. Такие, слышь-ко, штучки, что диву дашься: как ему помогло.
Был в ту пору мастер Прокопьич. По этим делам первый. Лучше его никто не мог. В пожилых годах был.
Вот барин и велел приказчику поставить к этому Прокопьичу парнишек на выучку.
— Пущай-де переймут все до тонкости.
Только Прокопьич, — то ли ему жаль было расставаться со своим мастерством, то ли еще что, — учил шибко худо. Все у него с рывка да с тычка. Насадит парнишке по всей голове шишек, уши чуть не оборвет да и говорит приказчику:
— Не гож этот... Глаз у него неспособный, рука не несет. Толку не выйдет.
Приказчику, видно, заказано было ублаготворять Прокопьича.
— Не гож, так не гож... Другого дадим... — И нарядит другого парнишку.
Ребятишки прослышали про эту науку... Спозаранку ревут, как бы к Прокопьичу не попасть. Отцам-матерям тоже не сладко родного дитенка на зряшную муку отдавать, — выгораживать стали свои-то, кто как мог. И то сказать, нездорово это мастерство, с малахитом-то. Отрава чистая. Вот и оберегаются люди.
Приказчик все ж таки помнит баринов наказ — ставит Прокопьичу учеников. Тот по своему порядку помытарит парнишку да и сдаст обратно приказчику.
— Не гож этот... Приказчик взъедаться стал:
— До какой поры это будет? Не гож да не гож, когда гож будет? Учи этого...
Прокопьич, знай, свое:
— Мне что... Хоть десять годов учить буду, а толку из этого парнишки не будет...
— Какого тебе еще?
— Мне хоть и вовсе не ставь, — об этом не скучаю...
Так вот и перебрали приказчик с Прокопьичем много ребятишек, а толк один: на голове шишки, а в голове — как бы убежать. Нарочно которые портили, чтобы Прокопьич их прогнал. Вот так-то и дошло дело до Данилки Недокормыша. Сиротка круглый был этот парнишечко. Годов, поди, тогда двенадцати, а то и боле. На ногах высоконький, а худой-расхудой, в чем душа держится. Ну, а с лица чистенький. Волосенки кудрявеньки, глазенки голубеньки. Его и взяли сперва в казачки при господском доме: табакерку, платок подать, сбегать куда и протча. Только у этого сиротки дарованья к такому делу не оказалось. Другие парнишки на таких-то местах вьюнами вьются. Чуть что — на вытяжку: что прикажете? А этот Данилко забьется куда в уголок, уставится глазами на картину какую, а то на украшенье, да и стоит. Его кричат, а он и ухом не ведет. Били, конечно, поначалу-то, потом рукой махнули:
— Блаженный какой-то! Тихоход! Из такого хорошего слуги не выйдет.
На заводскую работу либо в гору все ж таки не отдали — шибко жидко место, на неделю не хватит. Поставил его приказчик в подпаски. И тут Данилко не вовсе гож пришелся. Парнишечко ровно старательный, а все у него оплошка выходит. Все будто думает о чем-то. Уставится глазами на травинку, а коровы-то — вон где! Старый пастух ласковый попался, жалел сиротку, и тот временем ругался:
— Что только из тебя, Данилко, выйдет? Погубишь ты себя, да и мою старую спину под бой подведешь. Куда это годится? О чем хоть думка-то у тебя?
— Я и сам, дедко, не знаю... Так... ни о чем... Засмотрелся маленько. Букашка по листочку ползла. Сама сизенька, а из-под крылышек у ней желтенько выглядывает, а листок широконький... По краям зубчики, вроде оборочки выгнуты. Тут потемнее показывает, а середка зеленая-презеленая, ровно ее сейчас выкрасили... А букашка-то и ползет...
— Ну, не дурак ли ты, Данилко? Твое ли дело букашек разбирать? Ползет она — и ползи, а твое дело за коровами глядеть. Смотри у меня, выбрось эту дурь из головы, не то приказчику скажу!
Одно Данилушке далось. На рожке он играть научился — куда старику! Чисто на музыке какой. Вечером, как коров пригонят, девки-бабы просят:
— Сыграй, Данилушко, песенку.
Он и начнет наигрывать. И песни все незнакомые. Не то лес шумит, не то ручей журчит, пташки на всякие голоса перекликаются, а хорошо выходит. Шибко за те песенки стали женщины привечать Данилушку. Кто пониточек починит, кто холста на онучи отрежет, рубашонку новую сошьет. Про кусок и разговору нет, — каждая норовит дать побольше да послаще. Старику пастуху тоже Данилушковы песни по душе пришлись. Только и тут маленько неладно выходило. Начнет Данилушко наигрывать и все забудет, ровно и коров нет. На этой игре и пристигла его беда.
Данилушко, видно, заигрался, а старик задремал по малости. Сколько-то коровенок у них и отбилось. Как стали на выгон собирать, глядят — той нет, другой нет. Искать кинулись, да где тебе. Пасли около Ельничной... Самое тут волчье место, глухое... Одну только коровенку и нашли. Пригнали стадо домой... Так и так — обсказали. Ну, из завода тоже побежали — поехали на розыски, да не нашли.
Расправа тогда, известно, какая была. За всякую вину спину кажи. На грех еще одна-то корова из приказчичьего двора была. Тут и вовсе спуску не жди. Растянули сперва старика, потом и до Данилушки дошло, а он худенький да тощенький. Господский палач оговорился даже.
— Экой-то, — говорит, — с одного разу сомлеет, а то и вовсе душу выпустит.
Ударил все ж таки — не пожалел, а Данилушко молчит. Палач его вдругорядь — молчит, втретьи — молчит. Палач тут и расстервенился, давай полысать со всего плеча, а сам кричит:
— Я тебя, молчуна, доведу... Дашь голос... Дашь! Данилушко дрожит весь, слезы каплют, а молчит. Закусил губенку-то и укрепился. Так и сомлел, а словечка от него не слыхали. Приказчик, — он тут же, конечно, был, — удивился:
— Какой еще терпеливый выискался! Теперь знаю, куда его поставить, коли живой останется.
Отлежался-таки Данилушко. Бабушка Вихориха его на ноги поставила. Была, сказывают, старушка такая. Заместо лекаря по нашим заводам на большой славе была. Силу в травах знала: которая от зубов, которая от надсады, которая от ломоты... Ну, все как есть. Сама те травы собирала в самое время, когда какая трава полную силу имела. Из таких трав да корешков настойки готовила, отвары варила да с мазями мешала.
Хорошо Данилушке у этой бабушки Вихорихи пожилось. Старушка, слышь-ко, ласковая да словоохотливая, а трав, да корешков, да цветков всяких у ней насушено да навешено по всей избе. Данилушко к травам-то любопытен — как эту зовут? где растет? какой цветок? Старушка ему и рассказывает.
Раз Данилушко и спрашивает:
— Ты, бабушка, всякий цветок в наших местах знаешь?
— Хвастаться, — говорит, — не буду, а все будто знаю, какие открытые-то.
— А разве, — спрашивает, — еще не открытые бывают?
— Есть, — отвечает, — и такие. Папору вот слыхал? Она будто цветет на
Иванов день. Тот цветок колдовской. Клады им открывают. Для человека вредный. На разрыв-траве цветок — бегучий огонек. Поймай его — и все тебе затворы открыты. Воровской это цветок. А то еще каменный цветок есть. В малахитовой горе будто растет. На змеиный праздник полную силу имеет. Несчастный тот человек, который каменный цветок увидит.
— Чем, бабушка, несчастный?
— А это, дитенок, я и сама не знаю. Так мне сказывали. Данилушко у
Вихорихи, может, и подольше бы пожил, да приказчиковы вестовщики углядели, что парнишко маломало ходить стал, и сейчас к приказчику. Приказчик Данилушку призвал да и говорит:
— Иди-ко теперь к Прокопьичу — малахитному делу обучаться. Самая там по тебе работа.
Ну, что сделаешь? Пошел Данилушко, а самого еще ветром качает. Прокопьич поглядел на него да и говорит:
— Еще такого недоставало. Здоровым парнишкам здешняя учеба не по силе, а с такого что взыщешь — еле живой стоит.
Пошел Прокопьич к приказчику:
— Не надо такого. Еще ненароком убьешь — отвечать придется.
Только приказчик — куда тебе, слушать не стал;
— Дано тебе — учи, не рассуждай! Он — этот парнишка — крепкий. Не гляди, что жиденький.
— Ну, дело ваше, — говорит Прокопьич, — было бы сказано. Буду учить, только бы к ответу не потянули.
— Тянуть некому. Одинокий этот парнишка, что хочешь с ним делай, — отвечает приказчик.
Пришел Прокопьич домой, а Данилушко около станочка стоит, досочку малахитовую оглядывает. На этой досочке зарез сделан — кромку отбить. Вот Данилушко на это место уставился и головенкой покачивает. Прокопьичу любопытно стало, что этот новенький парнишка тут разглядывает. Спросил строго, как по его правилу велось:
— Ты это что? Кто тебя просил поделку в руки брать? Что тут доглядываешь? Данилушко и отвечает:
— На мой глаз, дедушко, не с этой стороны кромку отбивать надо. Вишь, узор тут, а его и срежут. Прокопьич закричал, конечно:
— Что? Кто ты такой? Мастер? У рук не бывало, а судишь? Что ты понимать можешь?
— То и понимаю, что эту штуку испортили, — отвечает Данилушко.
— Кто испортил? а? Это ты, сопляк, мне — первому мастеру!.. Да я тебе такую порчу покажу... жив не будешь!
Пошумел так-то, покричал, а Данилушку пальцем не задел. Прокопьич-то, вишь, сам над этой досочкой думал — с которой стороны кромку срезать. Данилушко своим разговором в самую точку попал. Прокричался Прокопьич и говорит вовсе уж добром:
— Ну-ко, ты, мастер явленый, покажи, как по-твоему сделать?
Данилушко и стал показывать да рассказывать:
— Вот бы какой узор вышел. А того бы лучше — пустить досочку поуже, по чистому полю кромку отбить, только бы сверху плетешок малый оставить.
Прокопьич знай покрикивает:
— Ну-ну... Как же! Много ты понимаешь. Накопил — не просыпь! — А про себя думает: «Верно парнишка говорит. Из такого, пожалуй, толк будет. Только учить-то его как? Стукни разок — он и ноги протянет».
Подумал так да и спрашивает:
— Ты хоть чей, экий ученый?
Данилушко и рассказал про себя. Дескать, сирота. Матери не помню, а про отца и вовсе не знаю, кто был. Кличут Данилкой Недокормышем, а как отчество и прозванье отцовское — про то не знаю. Рассказал, как он в дворне был и за что его прогнали, как потом лето с коровьим стадом ходил, как под бой попал. Прокопьич пожалел:
— Не сладко, гляжу, тебе, парень, житьишко-то задалось, а тут еще ко мне попал. У нас мастерство строгое. Потом будто рассердился, заворчал:
— Ну, хватит, хватит! Вишь разговорчивый какой! Языком-то — не руками — всяк бы работал. Целый вечер лясы да балясы! Ученичок тоже! Погляжу вот завтра, какой у тебя толк. Садись ужинать, да и спать пора.
Прокопьич одиночкой жил. Жена-то у него давно умерла. Старушка Митрофановна из соседей снаходу у него хозяйство вела. Утрами ходила постряпать, сварить чего, в избе прибрать, а вечером Прокопьич сам управлял, что ему надо.
Поели, Прокопьич и говорит:
— Ложись вон тут на скамеечке!
Данилушко разулся, котомку свою под голову, понитком закрылся, поежился маленько, — вишь, холодно в избе-то было по осеннему времени, — все-таки вскорости уснул. Прокопьич тоже лег, а уснуть не мог: все у него разговор о малахитовом узоре из головы нейдет. Ворочался-ворочался, встал, зажег свечку да и к станку — давай эту малахитову досочку так и сяк примерять. Одну кромку закроет, другую... прибавит поле, убавит. Так поставит, другой стороной повернет, и все выходит, что парнишка лучше узор понял.
— Вот тебе и Недокормышек! — дивится Прокопьич. — Еще ничем-ничего, а старому мастеру указал. Ну и глазок! Ну и глазок!
Пошел потихоньку в чулан, притащил оттуда подушку да большой овчинный тулуп. Подсунул подушку Данилушке под голову, тулупом накрыл:
— Спи-ко, глазастый!
А тот и не проснулся, повернулся только на другой бочок, растянулся под тулупом-то — тепло ему стало, — и давай насвистывать носом полегоньку. У Прокопьича своих ребят не было, этот Данилушко и припал ему к сердцу. Стоит мастер, любуется, а Данилушко знай посвистывает, спит себе спокойненько. У Прокопьича забота — как бы этого парнишку хорошенько на ноги поставить, чтоб не такой тощий да нездоровый был.
— С его ли здоровьишком нашему мастерству учиться. Пыль, отрава, — живо зачахнет. Отдохнуть бы ему сперва, подправиться, потом учить стану. Толк, видать, будет.
На другой день и говорит Данилушке:
— Ты спервоначалу по хозяйству помогать будешь. Такой у меня порядок заведен. Понял? Для первого разу сходи за калиной. Ее иньями прихватило, — в самый раз она теперь на пироги. Да, гляди, не ходи далеко-то. Сколь наберешь — то и ладно. Хлеба возьми полишку, — естся в лесу-то, — да еще к Митрофановне зайди. Говорил ей, чтоб тебе пару яичек испекла да молока в туесочек плеснула. Понял?
На другой день опять говорит:
— Поймай-ко мне щегленка поголосистее да чечетку побойчее. Гляди, чтобы к вечеру были. Понял?
Когда Данилушко поймал и принес, Прокопьич говорит:
— Ладно, да не вовсе. Лови других.
Так и пошло. На каждый день Прокопьич Данилушке работу дает, а все забава. Как снег выпал, велел ему с соседом за дровами ездить — пособишь-де. Ну, а какая подмога! Вперед на санях сидит, лошадью правит, а назад за возом пешком идет. Промнется так-то, поест дома да спит покрепче. Шубу ему Прокопьич справил, шапку теплую, рукавицы, пимы на заказ скатали.
Прокопьич, видишь, имел достаток. Хоть крепостной был, а по оброку ходил, зарабатывал маленько. К Данилушке-то он крепко прилип. Прямо сказать, за сына держал. Ну, и не жалел для него, а к делу своему не подпускал до времени.
В хорошем-то житье Данилушко живо поправляться стал и к Прокопьичу тоже прильнул. Ну, как! — понял Прокопьичеву заботу, в первый раз так-то пришлось пожить. Прошла зима. Данилушке и вовсе вольготно стало. То он на пруд, то в лес. Только и к мастерству Данилушко присматривался. Прибежит домой, и сейчас же у них разговор. То, другое Прокопьичу расскажет да и спрашивает — это что да это как? Прокопьич объяснит, на деле покажет. Данилушко примечает. Когда и сам примется:
«Ну-ко, я...» Прокопьич глядит, поправит, когда надо, укажет, как лучше.
Вот как-то раз приказчик и углядел Данилушку на пруду. Спрашивает своих-то вестовщиков:
— Это чей парнишка? Который день его на пруду вижу... По будням с удочкой балуется, а уж не маленький... Кто-то его от работы прячет...
Узнали вестовщики, говорят приказчику, а он не верит.
— Ну-ко, — говорит, — тащите парнишку ко мне, сам дознаюсь.
Привели Данилушку. Приказчик спрашивает:
— Ты чей? Данилушко и отвечает:
— В ученье, дескать, у мастера по малахитному делу. Приказчик тогда хвать его за ухо:
— Так-то ты, стервец, учишься! — Да за ухо и повел к Прокопьичу.
Тот видит — неладно дело, давай выгораживать Данилушку:
— Это я сам его послал окуньков половить. Сильно о свеженьких-то окуньках скучаю. По нездоровью моему другой еды принимать не могу. Вот и велел парнишке половить.
Приказчик не поверил. Смекнул тоже, что Данилушко вовсе другой стал: поправился, рубашонка на нем добрая, штанишки тоже и на ногах сапожнешки. Вот и давай проверку Данилушке делать:
— Ну-ко, покажи, чему тебя мастер выучил? Данилушко запончик надел, подошел к станку и давай рассказывать да показывать. Что приказчик спросит — у него на все ответ готов. Как околтать камень, как распилить, фасочку снять, чем когда склеить, как полер навести, как на медь присадить, как на дерево. Однем словом, все как есть.
Пытал-пытал приказчик, да и говорит Прокопьичу:
— Этот, видно, гож тебе пришелся?
— Не жалуюсь, — отвечает Прокопьич.
— То-то, не жалуешься, а баловство разводишь! Тебе его отдали мастерству учиться, а он у пруда с удочкой! Смотри! Таких тебе свежих окуньков отпущу — до смерти не забудешь да и парнишке невесело станет.
Погрозился так-то, ушел, а Прокопьич дивуется:
— Когда хоть ты, Данилушко, все это понял? Ровно я тебя еще и вовсе не учил.
— Сам же, — говорит Данилушко, — показывал да рассказывал, а я примечал.
У Прокопьича даже слезы закапали, — до того ему это по сердцу пришлось.
— Сыночек, — говорит, — милый, Данилушко... Что еще знаю, все тебе открою... Не потаю...
Только с той поры Данилушке не стало вольготного житья. Приказчик на другой день послал за ним и работу на урок стал давать. Сперва, конечно, попроще что: бляшки, какие женщины носят, шкатулочки. Потом с точкой пошло: подсвечники да украшения разные. Там и до резьбы доехали. Листочки да лепесточки, узорчики да цветочки. У них ведь — малахитчиков — дело мешкотное. Пустяковая ровно штука, а сколько он над ней сидит! Так Данилушко и вырос за этой работой.
А как выточил зарукавье — змейку из цельного камня, так его и вовсе мастером приказчик признал. Барину об этом отписал:
«Так и так, объявился у нас новый мастер по малахитному делу — Данилко Недокормыш. Работает хорошо, только по молодости еще тих. Прикажете на уроках его оставить али, как и Прокопьича, на оброк отпустить?»
Работал Данилушко вовсе не тихо, а на диво ловко да скоро. Это уж Прокопьич тут сноровку поимел. Задаст приказчик Данилушке какой урок на пять ден, а Прокопьич пойдет да и говорит:
— Не в силу это. На такую работу полмесяца надо. Учится ведь парень. Поторопится — только камень без пользы изведет.
Ну, приказчик поспорит сколько, а дней, глядишь, прибавит. Данилушко и работал без натуги. Поучился даже потихоньку от приказчика читать, писать. Так, самую малость, а все ж таки разумел грамоте. Прокопьич ему в этом тоже сноровлял. Когда и сам наладится приказчиковы уроки за Данилушку делать, только Данилушко этого не допускал:
— Что ты! Что ты, дяденька! Твое ли дело за меня у станка сидеть!
Смотри-ка, у тебя борода позеленела от малахиту, здоровьем скудаться стал, а мне что делается?
Данилушко и впрямь к той поре выправился. Хоть по старинке его Недокормышем звали, а он вон какой! Высокий да румяный, кудрявый да веселый. Однем словом, сухота девичья. Прокопьич уж стал с ним про невест заговаривать, а Данилушко, знай, головой потряхивает:
— Не уйдет от нас! Вот мастером настоящим стану, тогда и разговор будет.
Барин на приказчиково известие отписал:
«Пусть тот Прокопьичев выученик Данилко сделает еще точеную чашу на ножке
для моего дому. Тогда погляжу — на оброк отпустить али на уроках держать. Только ты гляди, чтобы Прокопьич тому Данилке не пособлял. Не доглядишь — с тебя взыск будет»
Приказчик получил это письмо, призвал Данилушку да и говорит:
— Тут, у меня, работать будешь. Станок тебе наладят, камню привезут, какой надо.
Прокопьич узнал, запечалился: как так? что за штука? Пошел к приказчику, да разве он скажет... Закричал только:
«Не твое дело!»
Ну, вот пошел Данилушко работать на ново место, а Прокопьич ему наказывает:
— Ты гляди не торопись, Данилушко! Не оказывай себя.
Данилушко сперва остерегался. Примеривал да прикидывал больше, да тоскливо ему показалось. Делай не делай, а срок отбывай — сиди у приказчика с утра до ночи. Ну, Данилушко от скуки и сорвался на полную силу. Чаша-то у него живой рукой и вышла из дела. Приказчик поглядел, будто так и надо, да и говорит:
— Еще такую же делай!
Данилушко сделал другую, потом третью. Вот когда он третью-то кончил, приказчик и говорит:
— Теперь не увернешься! Поймал я вас с Прокопьичем. Барин тебе, по моему письму, срок для одной чаши дал, а ты три выточил. Знаю твою силу. Не обманешь больше, а тому старому псу покажу, как потворствовать! Другим закажет!
Так об этом и барину написал и чаши все три предоставил. Только барин, — то ли на него умный стих нашел, то ли он на приказчика за что сердит был, — все как есть наоборот повернул.
Оброк Данилушке назначил пустяковый, не велел парня от Прокопьича брать — может-де вдвоем скорее придумают что новенькое. При письме чертеж послал. Там тоже чаша нарисована со всякими штуками. По ободку кайма резная, на поясе лента каменная со сквозным узором, на подножке листочки. Однем словом, придумано. А на чертеже барин подписал: «Пусть хоть пять лет просидит, а чтобы такая в точности сделана была»
Пришлось тут приказчику от своего слова отступить. Объявил, что барин написал, отпустил Данилушку к Прокопьичу и чертеж отдал.
Повеселели Данилушко с Прокопьичем, и работа у них бойчее пошла. Данилушко вскоре за ту новую чашу принялся. Хитрости в ней многое множество. Чуть неладно ударил, — пропала работа, снова начинай. Ну, глаз у Данилушки верный, рука смелая, силы хватит — хорошо идет дело. Одно ему не по нраву — трудности много, а красоты ровно и вовсе нет. Говорил Прокопьичу, а он только удивился:
— Тебе-то что? Придумали — значит, им надо. Мало ли я всяких штук выточил да вырезал, а куда они — толком и не знаю.
Пробовал с приказчиком поговорить, так куда тебе. Ногами затопал, руками замахал:
— Ты очумел? За чертеж большие деньги плачены. Художник, может, по столице первый его делал, а ты пересуживать выдумал!
Потом, видно, вспомнил, что барин ему заказывал, — не выдумают ли вдвоем чего новенького, — и говорит:
— Ты вот что... делай эту чашу по барскому чертежу, а если другую от себя выдумаешь — твое дело. Мешать не стану. Камня у нас, поди-ко, хватит. Какой надо — такой и дам.
Тут вот Данилушке думка и запала. Не нами сказано — чужое охаять мудрости немного надо, а свое придумать — не одну ночку с боку на бок повертишься.
Вот Данилушко сидит над этой чашей по чертежу-то, а сам про другое думает. Переводит в голове, какой цветок, какой листок к малахитовому камню лучше подойдет. Задумчивый стал, невеселый. Прокопьич заметил, спрашивает:
— Ты, Данилушко, здоров ли? Полегче бы с этой чашей. Куда торопиться?
Сходил бы в разгулку куда, а то все сидишь да сидишь.
— И то, — говорит Данилушко, — в лес хоть сходить. Не увижу ли, что мне надо.
С той поры и стал чуть не каждый день в лес бегать. Время как раз покосное, ягодное. Травы все в цвету. Данилушко остановится где на покосе либо на полянке в лесу и стоит, смотрит. А то опять ходит по покосам да разглядывает траву-то, как ищет что.
Людей в ту пору в лесу и на покосах много. Спрашивают Данилушку — не потерял ли чего? Он улыбнется этак невесело да и скажет:
— Потерять не потерял, а найти не могу. Ну, которые и запоговаривали:
— Неладно с парнем.
А он придет домой и сразу к станку, да до утра и сидит, а с солнышком опять в лес да на покосы. Листки да цветки всякие домой притаскивать стал, а все больше из объеди: черемицу да омег, дурман да багульник, да резуны всякие.
С лица спал, глаза беспокойные стали, в руках смелость потерял. Прокопьич вовсе забеспокоился, а Данилушко и говорит:
— Чаша мне покою не дает. Охота так ее сделать, чтобы камень полную силу имел.
Прокопьич давай отговаривать:
— На что она тебе далась? Сыты ведь, чего еще? Пущай бары тешатся, как им любо. Нас бы только не задевали. Придумают какой узор — сделаем, а навстречу-то им зачем лезть? Лишний хомут надевать — только и всего.
Ну, Данилушко на своем стоит.
— Не для барина, — говорит, — стараюсь. Не могу из головы выбросить ту чашу. Вижу, поди ко, какой у нас камень, а мы что с ним делаем? Точим, да режем, да полер наводим и вовсе ни к чему. Вот мне и припало желание так сделать, чтобы полную силу камня самому поглядеть и людям показать.
По времени отошел Данилушко, сел опять за ту чашу, по барскому-то чертежу. Работает, а сам посмеивается:
— Лента каменная с дырками, каемочка резная... Потом вдруг забросил эту работу. Другое начал. Без передышки у станка стоит. Прокопьичу сказал:
— По дурман-цветку свою чашу делать буду. Прокопьич отговаривать принялся. Данилушко сперва и слушать не хотел, потом, дня через три-четыре, как у него какая-то оплошка вышла, и говорит Прокопьичу:
— Ну ладно. Сперва барскую чашу кончу, потом за свою примусь. Только ты уж тогда меня не отговаривай... Не могу ее из головы выбросить.
Прокопьич отвечает:
— Ладно, мешать не стану, — а сам думает: «Уходится парень, забудет. Женить его надо. Вот что! Лишняя дурь из головы вылетит, как семьей обзаведется».
Занялся Данилушко чашей. Работы в ней много — в один год не укладешь. Работает усердно, про дурман-цветок не поминает.
Прокопьич и стал про женитьбу заговаривать:
— Вот хоть бы Катя Летемина — чем не невеста? Хорошая девушка... Похаять нечем.
Это Прокопьич-то от ума говорил. Он, вишь, давно заприметил, что Данилушко на эту девушку сильно поглядывал. Ну, и она не отворачивалась. Вот Прокопьич, будто ненароком, и заводил разговор. А Данилушко свое твердит:
— Погоди! Вот с чашкой управлюсь. Надоела мне она. Того и гляди — молотком стукну, а он про женитьбу! Уговорились мы с Катей. Подождет она меня.
Ну, сделал Данилушко чашу по барскому чертежу. Приказчику, конечно, не сказали, а дома у себя гулянку маленькую придумали сделать. Катя — невеста-то — с родителями пришла, еще которые... из мастеров же малахитных больше. Катя дивится на чашу.
— Как, — говорит, — только ты ухитрился узор такой вырезать и камня нигде не обломил! До чего все гладко да чисто обточено!
Мастера тоже одобряют:
— В аккурат-де по чертежу. Придраться не к чему. Чисто сработано. Лучше не сделать, да и скоро. Так-то работать станешь — пожалуй, нам тяжело за тобой тянуться.
Данилушко слушал-слушал да и говорит:
— То и горе, что похаять нечем. Гладко да ровно, узор чистый, резьба по чертежу, а красота где? Вон цветок... самый что ни есть плохонький, а глядишь на него — сердце радуется. Ну, а эта чаша кого обрадует? На что она? Кто поглядит, всяк, как вон Катенька, подивится, какой-де у мастера глаз да рука, как у него терпенья хватило нигде камень не обломить.
— А где оплошал, — смеются мастера, — там подклеил да полером прикрыл, и концов не найдешь.
— Вот-вот... А где, спрашиваю, красота камня? Тут прожилка прошла, а ты на ней дырки сверлишь да цветочки режешь. На что они тут? Порча ведь это камня. А камень-то какой! Первый камень! Понимаете, первый! Горячиться стал. Выпил, видно, маленько. Мастера и говорят Данилушке, что ему Прокопьич не раз говорил:
— Камень — камень и есть. Что с ним сделаешь? Наше дело такое — точить да резать.
Только был тут старичок один. Он еще Прокопьича и тех — других-то мастеров — учил! Все его дедушком звали. Вовсе ветхий старичоночко, а тоже этот разговор понял да и говорит Данилушке:
— Ты, милый сын, по этой половице не ходи! Из головы выбрось! А то попадешь к Хозяйке в горные мастера...
— Какие мастера, дедушко?
— А такие... в горе живут, никто их не видит... Что Хозяйке понадобится, то они сделают. Случилось мне раз видеть. Вот работа! От нашей, от здешней, на отличку.
Всем любопытно стало. Спрашивают, — какую поделку видел.
— Да змейку, — говорит, — ту же, какую вы на зарукавье точите.
— Ну, и что? Какая она?
— От здешних, говорю, на отличку. Любой мастер увидит, сразу узнает — не здешняя работа. У наших змейка, сколь чисто ни выточат, каменная, а тут как есть живая. Хребтик черненький, глазки... Того и гляди — клюнет. Им ведь что! Они цветок каменный видали, красоту поняли.
Данилушко, как услышал про каменный цветок, давай спрашивать старика. Тот по совести сказал:
Не знаю, милый сын. Слыхал, что есть такой цветок Видеть его нашему брату нельзя. Кто поглядит, тому белый свет не мил станет.
Данилушко на это и говорит:
— Я бы поглядел.
Тут Катенька, невеста-то его, так и затрепыхалась:
— Что ты, что ты, Данилушко! Неуж тебе белый свет наскучил? — да в слезы.
Прокопьич и другие мастера сметили дело, давай старого мастера на смех подымать:
— Выживаться из ума, дедушко, стал. Сказки сказываешь. Парня зря с пути сбиваешь.
Старик разгорячился, по столу стукнул:
— Есть такой цветок! Парень правду говорит: камень мы не разумеем. В том цветке красота показана. Мастера смеются:
— Хлебнул, дедушко, лишка! А он свое:
— Есть каменный цветок!
Разошлись гости, а у Данилушки тот разговор из головы не выходит. Опять стал в лес бегать да около своего дурман-цветка ходить, про свадьбу и не поминает. Прокопьич уж понуждать стал:
— Что ты девушку позоришь? Который год она в невестах ходить будет? Того жди — пересмеивать ее станут. Мало смотниц-то?
Данилушко одно свое:
— Погоди ты маленько! Вот только придумаю да камень подходящий подберу
И повадился на медный рудник — на Гумешки-то. Когда в шахту спустится, по забоям обойдет, когда наверху камни перебирает. Раз как-то поворотил камень, оглядел его да и говорит:
— Нет, не тот...
Только это промолвил, кто-то и говорит;
— В другом месте поищи... у Змеиной горки.
Глядит Данилушко — никого нет. Кто бы это? Шутят, что ли... Будто и спрятаться негде. Поогляделся еще, пошел домой, а вслед ему опять:
— Слышь, Данило-мастер? У Змеиной горки, говорю.
Оглянулся Данилушко — женщина какая-то чуть видна, как туман голубенький. Потом ничего не стало.
«Что, — думает, — за штука? Неуж сама? А что, если сходить на Змеиную-то?»
Змеиную горку Данилушко хорошо знал. Тут же она была, недалеко от Гумешек. Теперь ее нет, давно всю срыли, а раньше камень поверху брали.
Вот на другой день и пошел туда Данилушко. Горка хоть небольшая, а крутенькая. С одной стороны и вовсе как срезано. Глядельце тут первосортное. Все пласты видно, лучше некуда.
Подошел Данилушко к этому глядельцу, а тут малахитина выворочена. Большой камень — на руках не унести, и будто обделан вроде кустика. Стал оглядывать Данилушко эту находку. Все, как ему надо: цвет снизу погуще, прожилки на тех самых местах, где требуется... Ну, все как есть... Обрадовался Данилушко, скорей за лошадью побежал, привез камень домой, говорит Прокопьичу:
— Гляди-ко, камень какой! Ровно нарочно для моей работы. Теперь живо сделаю. Тогда и жениться. Верно, заждалась меня Катенька. Да и мне это не легко. Вот только эта работа меня и держит. Скорее бы ее кончить!
Ну, и принялся Данилушко за тот камень. Ни дня, ни ночи не знает. А Прокопьич помалкивает. Может, угомонится парень, как охотку стешит. Работа ходко идет. Низ камня отделал. Как есть, слышь-ко, куст дурмана. Листья широкие кучкой, зубчики, прожилки — все пришлось лучше нельзя, Прокопьич и то говорит — живой цветок-то, хоть рукой пощупать. Ну, как до верху дошел — тут заколодило. Стебелек выточил, боковые листики тонехоньки — как только держатся! Чашку, как у дурман-цветка, а не то... Не живой стал и красоту потерял. Данилушко тут и сна лишился. Сидит над этой своей чашей, придумывает, как бы поправить, лучше сделать. Прокопьич и другие мастера, кои заходили поглядеть, дивятся, — чего еще парню надо? Чашка вышла — никто такой не делывал, а ему неладно. Умуется парень, лечить его надо. Катенька слышит, что люди говорят, — поплакивать стала. Это Данилушку и образумило.
— Ладно, — говорит, — больше не буду. Видно, не подняться мне выше-то, не поймать силу камня. — И давай сам торопить со свадьбой.
Ну, а что торопить, коли у невесты давным-давно все готово. Назначили день. Повеселел Данилушко. Про чашу-то приказчику сказал. Тот прибежал, глядит — вот штука какая! Хотел сейчас эту чашу барину отправить, да Данилушко говорит:
— Погоди маленько, доделка есть.
Время осеннее было. Как раз около Змеиного праздника свадьба пришлась. К слову, кто-то и помянул про это — вот-де скоро змеи все в одно место соберутся. Данилушко эти слова на приметку взял. Вспомнил опять разговоры о малахитовом цветке. Так его и потянуло: «Не сходить ли последний раз к Змеиной горке? Не узнаю ли там чего?» — и про камень припомнил: «Ведь как положенный был! И голос на руднике-то... про Змеиную же горку говорил».
Вот и пошел Данилушко! Земля тогда уже подмерзать стала, снежок припорашивал. Подошел Данилушко ко крутику, где камень брал, глядит, а на том месте выбоина большая, будто камень ломали. Данилушко о том не подумал, кто это камень ломал, зашел в выбоину. «Посижу, — думает, — отдохну за ветром. Потеплее тут». Глядит — у одной стены камень-серовик, вроде стула. Данилушко тут и сел, задумался, в землю глядит, и все цветок тот каменный из головы нейдет. «Вот бы поглядеть!» Только вдруг тепло стало, ровно лето воротилось. Данилушко поднял голову, а напротив, у другой-то стены, сидит Медной горы Хозяйка. По красоте-то да по платью малахитову Данилушко сразу ее признал.
Только и то думает:
«Может, мне это кажется, а на деле никого нет». Сидит — молчит, глядит на то место, где Хозяйка, и будто ничего не видит. Она тоже молчит, вроде как призадумалась. Потом и спрашивает:
— Ну, что, Данило-мастер, не вышла твоя дурман-чаша?
— Не вышла, — отвечает.
— А ты не вешай голову-то! Другое попытай. Камень тебе будет, по твоим мыслям.
— Нет, — отвечает, — не могу больше. Измаялся весь, не выходит. Покажи каменный цветок.
— Показать-то, — говорит, — просто, да потом жалеть будешь.
— Не отпустишь из горы?
— Зачем не отпущу! Дорога открыта, да только ко мне же ворочаются.
— Покажи, сделай милость! Она еще его уговаривала:
— Может, еще попытаешь сам добиться! — Про Прокопьича тоже помянула: —
Он-де тебя пожалел, теперь твой черед его пожалеть. — Про невесту напомнила: — Души в тебе девка не чает, а ты на сторону глядишь.
— Знаю я, — кричит Данилушко, — а только без цветка мне жизни нет. Покажи!
— Когда так, — говорит, — пойдем, Данило-мастер, в мой сад.
Сказала и поднялась. Тут и зашумело что-то, как осыпь земляная. Глядит Данилушко, а стен никаких нет. Деревья стоят высоченные, только не такие, как в наших лесах, а каменные. Которые мраморные, которые из змеевика-камня... Ну, всякие... Только живые, с сучьями, с листочками. От ветру-то покачиваются и голк дают, как галечками кто подбрасывает. Понизу трава, тоже каменная. Лазоревая, красная... разная... Солнышка не видно, а светло, как перед закатом. Промеж деревьев змейки золотенькие трепыхаются, как пляшут. От них и свет идет.
И вот подвела та девица Данилушку к большой полянке. Земля тут, как простая глина, а по ней кусты черные, как бархат. На этих кустах большие зеленые колокольцы малахитовы и в каждом сурьмяная звездочка. Огневые пчелки над теми цветками сверкают, а звездочки тонехонько позванивают, ровно поют.
— Ну, Данило-мастер, поглядел? — спрашивает Хозяйка.
— Не найдешь, — отвечает Данилушко, — камня, чтобы так-то сделать.
— Кабы ты сам придумал, дала бы тебе такой камень, теперь не могу. —
Сказала и рукой махнула. Опять зашумело, и Данилушко на том же камне, в ямине-то этой оказался. Ветер так и свистит. Ну, известно, осень.
Пришел Данилушко домой, а в тот день как раз у невесты вечеринка была. Сначала Данилушко веселым себя показывал — песни пел, плясал, а потом и затуманился. Невеста даже испугалась:
— Что с тобой? Ровно на похоронах ты! А он и говорит:
— Голову разломило. В глазах черное с зеленым да красным. Света не вижу.
На этом вечеринка и кончилась. По обряду невеста с подружками провожать жениха пошла. А много ли дороги, коли через дом либо через два жили. Вот Катенька и говорит:
— Пойдемте, девушки, кругом. По нашей улице до конца дойдем, а по Еланской воротимся.
Про себя думает: «Пообдует Данилушку ветром, — не лучше ли ему станет».
А подружкам что. Рады-радехоньки.
— И то, — кричат, — проводить надо. Шибко он близко живет — провожальную песню ему по-доброму вовсе не певали.
Ночь-то тихая была, и снежок падал. Самое для разгулки время. Вот они и пошли. Жених с невестой попереду, а подружки невестины с холостяжником, который на вечеринке был, поотстали маленько. Завели девки эту песню провожальную. А она протяжно да жалобно поется, чисто по покойнику.
Катенька видит — вовсе ни к чему это: «И без того Данилушко у меня невеселый, а они еще причитанье петь придумали».
Старается отвести Данилушку на другие думки. Он разговорился было, да только скоро опять запечалился. Подружки Катенькины тем временем провожальную кончили, за веселые принялись. Смех у них да беготня, а Данилушко идет, голову повесил. Сколь Катенька ни старается, не может развеселить. Так и до дому дошли. Подружки с холостяжником стали расходиться — кому куда, а Данилушко уж без обряду невесту свою проводил и домой пошел.
Прокопьич давно спал. Данилушко потихоньку зажег огонь, выволок свои чаши на середину избы и стоит, оглядывает их. В это время Прокопьича кашлем бить стало. Так и надрывается. Он, вишь, к тем годам вовсе нездоровый стал. Кашлем-то этим Данилушку как ножом по сердцу резнуло. Всю прежнюю жизнь припомнил. Крепко жаль ему старика стало. А Прокопьич прокашлялся, спрашивает:
— Ты что это с чашами-то?
— Да вот гляжу, не пора ли сдавать?
— Давно, — говорит, — пора. Зря только место занимают. Лучше все равно не сделаешь.
Ну, поговорили еще маленько, потом Прокопьич опять уснул. И Данилушко лег, только сна ему нет и нет. Поворочался-поворочался, опять поднялся, зажег огонь, поглядел на чаши, подошел к Прокопьичу. Постоял тут над стариком-то, повздыхал...
Потом взял балодку да как ахнет по дурман-цветку, — только схрупало.
А ту чашу, — по барскому-то чертежу, — не пошевелил! Плюнул только в середку и выбежал. Так с той поры Данилушку и найти не могли.
Кто говорил, что он ума решился, в лесу загинул, а кто опять сказывал — Хозяйка взяла его в горные мастера.
На деле по-другому вышло. Про то дальше сказ будет.

 (4 оценок, среднее: 4,75 из 5)
(4 оценок, среднее: 4,75 из 5)